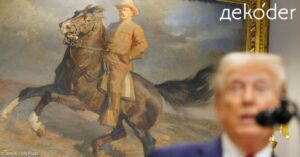Gnose
Уже в конце 1990-х годов Минск и Пекин заметно усилили двусторонние связи. Но лишь с избранием Си Цзиньпина генеральным секретарем Компартии, а затем и председателем КНР, Беларусь стала важным элементом в реализации экономической и внешнеполитической стратегии страны. Польский исследователь Камиль Клысински рассказывает, в чем отношения двух стран продвинулись вперед, а где надежды не реализовались.
In Uncategorized by Камиль Клысински