В чем популисты правы?
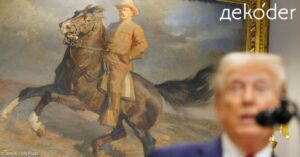
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Source
Пионер немецких краудфандинговых СМИ, основанный в 2014 году. В период запуска издания 15 тысяч человек согласились заплатить по 60 евро за неограниченный доступ к контенту в течение года. Таким образом редакция получила около 900 тысяч евро на первый год работы. К концу второго года число подписчиков упало до 5 тысяч человек, но к весне 2020 уже составило около 11 тысяч. Читатели, согласившиеся однократно пожертвовать 250 евро или больше, становятся членами партнерства и имеют право участвовать в решении ключевых вопросов, связанных с жизнью издания. Весной 2020 года в партнерство входило 453 человека.
Идея издания состоит в том, чтобы оставаться в постоянном контакте с подписчиками и прямо отвечать на их запросы. Редакция, в частности, регулярно задает читателям вопрос: «Есть ли что-то [в мире вокруг], чего вы не понимаете?» В первый год работы Krautreporter сделал доступ к контенту платным, отказался от модели сообщества журналистов-фрилансеров в пользу постоянно действующей редакции и провел исследование среди подписчиков, чтобы узнать, по каким темам они сами могут выступить экспертами, — и дальше использовать их знания в работе над материалами.
Спектр тем, которые поднимает Krautreporter, очень широк: от экспорта оружия и военной техники из Германии до неправильного питания в детских садах. В статье об углеродных выбросах в авиации Krautreporter призывал отказаться от путешествий на самолетах задолго до появления Греты Тунберг. В 2019 году за проект «Кому принадлежит Гамбург?» издание было награждено знаменитой премией Grimme Online Award в категории «Информационная журналистка».
Выходные данные
Год основания: 2014
Издатель: Александер фон Штрайт
Руководители проекта: Себастиан Эссер, Леон Фришер
URL: https://krautreporter.de/