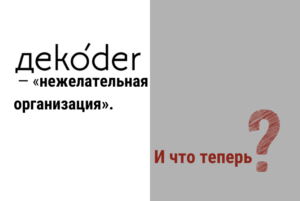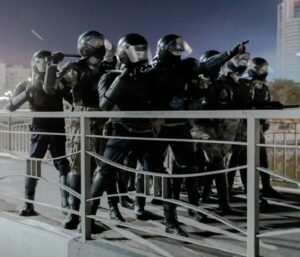Gnose
Один из крупнейших мировых техно-парадов, который с 1989 по 2006 год почти каждое лето проходил в Берлине, а с 2007 по 2010 год в различных городах Рурского региона на западе Германии. В первом параде участвовало 150 человек, а в 2008 году число участников превысило 1,5 миллиона. Звуковым сопровождением (и основным содержанием) парада была танцевальная музыка — техно, транс и хаус. В 2010 году в давке на параде, который проходил в городе Дуйсбург, погибло 24 человека, после чего он был навсегда отменен.
In Uncategorized by dekoder-Redaktion