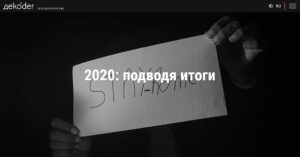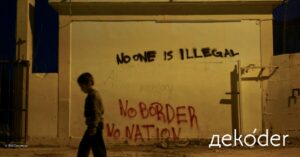Gnose
Светлана Алексиевич (род. 1948) – белорусская писательница и журналистка, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Алексиевич работает преимущественно в жанре художественно-документальной прозы, ее тексты это зачастую сборники воспоминаний, личных историй, интервью. Наиболее известные ее работы: «У войны не женское лицо» (нарратив о Великой Отечественной войне от лица женщин); «Время сэконд хэнд» (мемуары людей, выросших в СССР, homo soveticus); «Чернобыльская молитва» (книга, основанная на интервью с пережившими аварию на Чернобыльской АЭС).
In Uncategorized by Редакция декодера