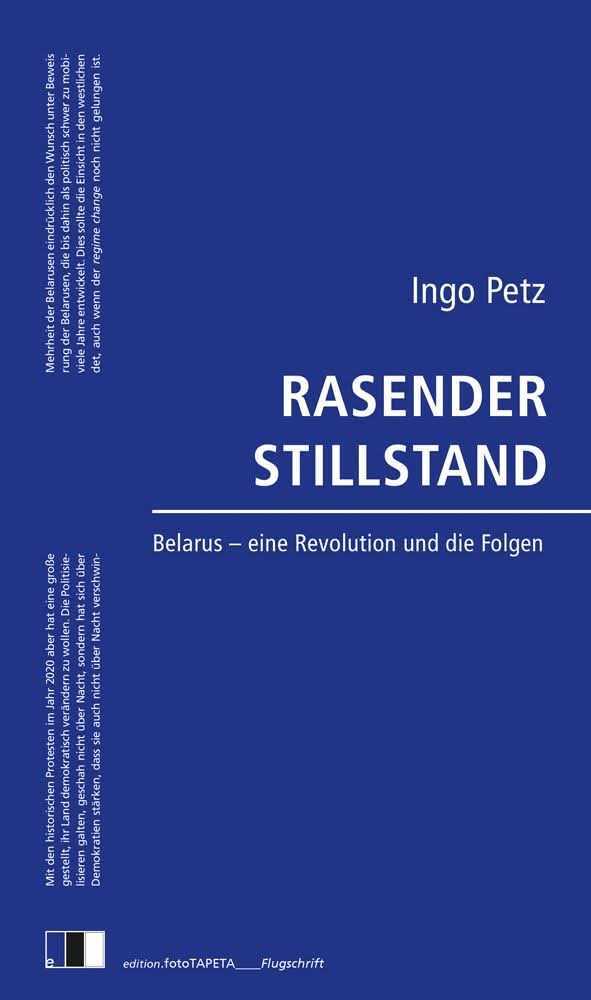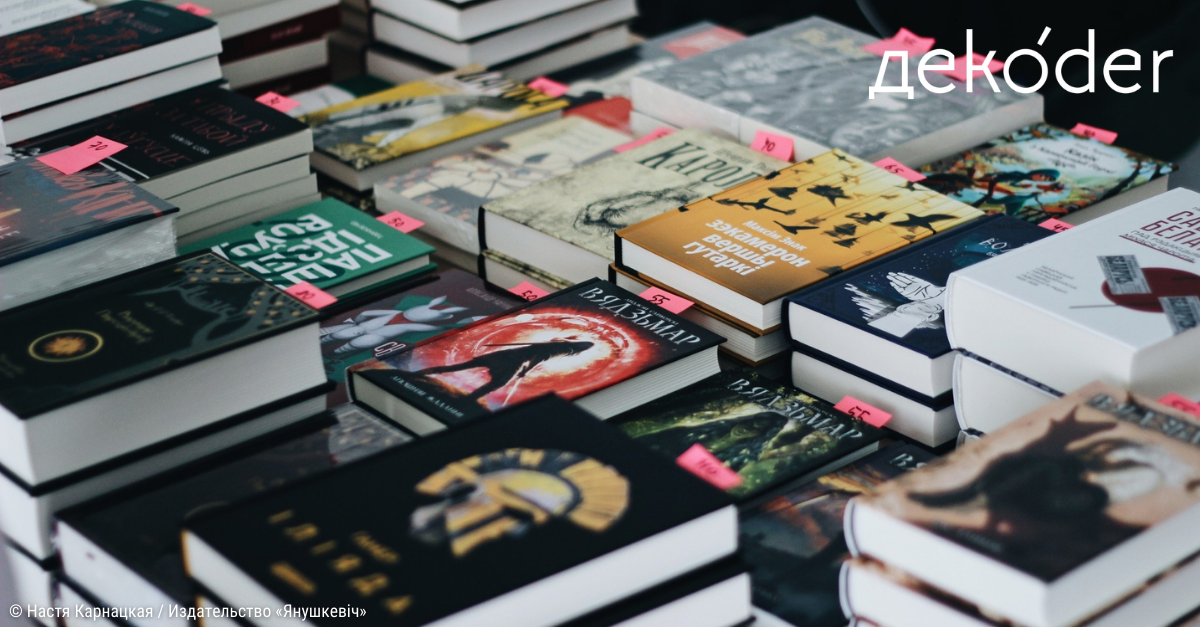«Если взять примерный совокупный бюджет всех редакций классических медиа [беларуского происхождения], то речь идет, по самым скромным подсчетам, о потере порядка 10 миллионов в год», — такую оценку дает Наталья Беликова, возглавляющая отдел международного сотрудничества в организации Press Club Belarus, которая объединяет профессионалов медиаиндустрии из Беларуси. — Это только СМИ, которые не получают прямой поддержки ни от какого государства. «Белсат», «Радио Свобода», Deutsche Welle сюда не входят».
Для одних редакций это было болезненно, но не критично, а вот некоторые другие лишились 70% бюджета. Что происходит с беларуским медиасектором в новой ситуации? Справляются ли редакции с тем, чтобы полноценно доносить альтернативную информацию до людей внутри Беларуси? Начался ли отток их аудитории?
СМИ вынуждены сокращать штат и объемы своей работы, но не закрываются полностью, рассказывает Наталья Беликова, с которой авторка дekoder’а Анна Волынец поговорила для этого материала.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить ничего из главных новостей и самых важных дискуссий, идущих в Германии и Европе. Это по-прежнему безопасно для всех, включая граждан России и Беларуси.
Самая заметная тенденция 2025 года, непосредственно связанная с прекращением американской помощи: беларуские медиа начали больше экспериментировать со своими финансовыми моделями, диверсифицировать их. «Они стараются развивать активности, направленные на тех, кто уехал: собирать донаты, развивать локальные комьюнити, делают клубы со входными билетами… Но даже в самых успешных кейсах это покрывает лишь 10% годового бюджета», — говорит Наталья Беликова.
По словам Беликовой, дополнительных активностей и в будущем не хватит, чтобы прожить без донорской поддержки и сохранить устойчивость в долгосрочной перспективе. Для тех, кто хочет помочь СМИ, Press Club Belarus запустил платформу для поддержки Save Belarus Media.
Беларуские медиа не могут выстроить рекламную модель финансирования: иностранному бизнесу малоинтересна реклама, ориентированная на людей, живущих в Беларуси, а беларускому опасно связываться с независимыми СМИ, которые почти без исключения объявлены режимом Лукашенко «экстремистскими».
«Все настроены сохранить основные бренды»
Самый сильный удар нанесен по «огромному количеству» фрилансеров, говорит Наталья Беликова. Число заказов уменьшается, усугубляя их и без того уязвимое положение.
Редакции существенно сокращают SMM-специалистов, уменьшают расходы на фото и визуальное оформление и на создание самих текстов — тоже. А следствием того, что материалов, в том числе эксклюзивных, становится меньше, с большой вероятностью будет и отток аудитории, прогнозирует собеседница дekoder´а.
«То, как созданная медиа продукция доходит до аудитории, сильно зависит от технологических компаний, таких как Meta, Google, TikTok, YouTube. Для их алгоритмов важен объем опубликованного контента, и с его уменьшением будет снижаться влияние медиа в средне- и долгосрочной перспективе», — объясняет Беликова.
Для алгоритмов важен объем опубликованного контента, и с его уменьшением будет снижаться влияние медиа
Тем не менее, отмечает руководительница отдела международного сотрудничества Press Club Belarus, ни одно СМИ не прекратило работу полностью. Как правило, «под нож» идут суббренды — небольшие проекты, не ассоциированные напрямую с основным продуктом.
«Все настроены сохранить [основные] бренды. Но количество суббрендов, контента сокращается, — говорит Наталья Беликова. — К концу года мы сможем измерить, каковы последствия для всей отрасли».
«Экосистему сложнее задушить»
Американские доноры воспринимали медиа не просто как НКО, работающие для гражданского общества, а как институции, деятельность которых нельзя просто остановить и спустя какое-то время перезапустить, отмечает Наталья Беликова. В свою очередь, европейские грантодатели чаще используют проектный подход, ожидая по окончании проекта конкретных показателей, которые отражали бы достигнутые изменения, — что не совсем релевантно для работы медиа.
«С этой проблемой сталкиваются не только беларуские редакции, но также СМИ из других восточноевропейских стран, из Африки и Азии, — рассказывает экспертка. — Поэтому сейчас среди тех, кто занимается управлением и развитием медиа, ведутся дискуссии об этой особенности и о том, как убедить классических европейских доноров пересмотреть проектный подход».
Наталья Беликова подчеркивает: при адвокации СМИ, то есть при защите и продвижении их интересов во внешней среде (среди доноров, в международных организациях и в иностранных правительствах), важно говорить об их сильных сторонах и достижениях вне зависимости от контекста.
Главный вопрос — как убедить европейских доноров пересмотреть проектный подход?
Сам Press Club Belarus при отстаивании интересов беларуских медиа всякий раз отмечает их способность работать в виде экосистемы, в которой соседствуют (и поддерживают друг друга) общенациональные и тематические медиа, нишевые издания и новостные агентства. Благодаря этому беларуские медиа сохраняют высокие охваты: «В этом сила: экосистему сложнее задушить, и за счет этого достигается эффект, информация независимых СМИ продолжает достигать аудитории», — считает Беликова.
На медиа в изгнании сохранился спрос внутри Беларуси
Другая особенность и еще одна сильная сторона беларуских медиа — близость к Беларуси во всех смыслах. Основные медиахабы расположены в Вильнюсе, Варшаве, Белостоке. Там же редакции могут найти помещения для работы, студии, специалистов и технические средства, необходимые, например, для того, чтобы помочь пользовательницам и пользователям обходить блокировку без использования VPN.
Положение беларуских медиа в изгнании, по мнению Натальи Беликовой, отличается еще и тем, что, в отличие от коллег из многих других стран, они могут по-прежнему ориентироваться на аудиторию внутри страны. И это при том, что медиарынок как таковой отсутствует из-за криминализации сферы СМИ: многие имеют статус «экстремистских формирований», часть продукции внесена в перечень «экстремистских материалов». Фактически это означает, что любой лайк к этим публикациям в соцсетях считается преступлением.
Около 15% аудитории внутри Беларуси пытается потреблять информацию из разных источников. Несмотря на репрессии
И ири всех этих вводных, отмечает Белякова, аудитория все равно демонстрирует спрос: «Несмотря на высокий уровень страха в обществе, большой процент [аудитории] — около 15%, согласно исследованию аналитического центра iSANS, — пытается потреблять информацию из разных источников. С учетом масштаба репрессий это довольно высокий процент людей, которые пытаются составить более сложную картину мира, чем ту, что предлагает пропаганда. А это свидетельствует о том, что общество остается еще довольно здоровым», — резюмирует Беликова.
Это то, что может помочь беларуским медиа говорить с донорами на языке достижений, поясняет она: рассказывать о своем уникальном ценностном предложении для аудитории, показывая целесообразность инвестиций.
Самую близкую аналогию нужно искать в Никарагуа
Беларуские медиа в изгнании нередко сравнивают с российскими, но Беликова не считает такую аналогию точной.
«Они несравнимы по влиянию на аудиторию внутри страны: в Беларуси независимые медиа охватывают гораздо большее количество людей, 25-30%, в то время как охваты СМИ, изгнанных из России, составляют 6-7% населения».
Если проводить параллели с медиа из других стран, то ближе всего к беларусам окажутся коллеги из Никарагуа. Протесты, которые в Беларуси пришлись на 2020 год, в Никарагуа случились на два года раньше, в 2018-м, и сейчас независимые редакции продолжают работу из Коста-Рики.
Половина работников беларуских независимых медиа сообщает о психологических проблемах
«У них тоже сначала был период либерализации, и так же после выборов президент резко закрыл все независимые медиа, — рассказывает Беликова. — Журналистов высылали из страны самолетами, их лишают гражданства, но у независимых медиа, как и у нас, в обществе есть большой кредит доверия».
«Когда шок проходит, они говорят: “Первый раз, что ли?”»
И наконец, еще одна особенность беларуских медиа — устойчивость, приобретенная благодаря долгой работе в сложных условиях. Если точнее, в «нормальных» условиях демократии и рынка они никогда и не работали, напоминает глава отдела международного сотрудничества Press Club Belarus.
Выживание в каком-то смысле стало привычным способом существования: начиная с 1990-х годов прошлого века было всего несколько лет, когда журналистов в Беларуси не преследовали и не пытались лишить возможности работать легально. По состоянию на середину июня 2025 года в тюрьмах за профессиональную деятельность заключены 39 работников медиа.
Прямо сейчас сочетание множества факторов требует от медиа инноваций, которые помогут им сохранить устойчивость, объясняет Наталья Беликова. «Конечно, есть те, кто уходит из профессии. Другие уже нарастили “толстокожесть”. У нас была большая встреча после новостей о США, тяжелое состояние, непонимание перспектив… Но когда шок проходит, все говорят: “Первый раз, что ли?” Это обреченность, но она не выбивает тебя из колеи настолько, что ты не можешь дальше ничего делать».
Но это — ненормальная ситуация, подчеркивает экспертка, стресс выливается в колоссальные уровни выгораний, тревожности, депрессий. Половина работников медиа сообщает о психологических проблемах, говорится в исследовании потребностей работников медиасектора, которое в декабре 2024 года презентовала Беларуская ассоциация журналистов.
«Понятно, что всем хотелось бы простоять хотя бы год стабильно на четырех лапках, но состояние перманентного шока стало для наших медиа нормой. Да, оно сказывается на человеческом здоровье, проценте выгорания и депрессий… Но в то же время дает твердость».
Текст: Анна Волынец
Опубликовано: 26.06.2025
Читайте также
«Беллит»: иллюзия, что все писатели уехали
Всем, кто уехал. И всем, кто остался
«Перемены в Беларуси наступят. Доживу ли до них я — другой вопрос»