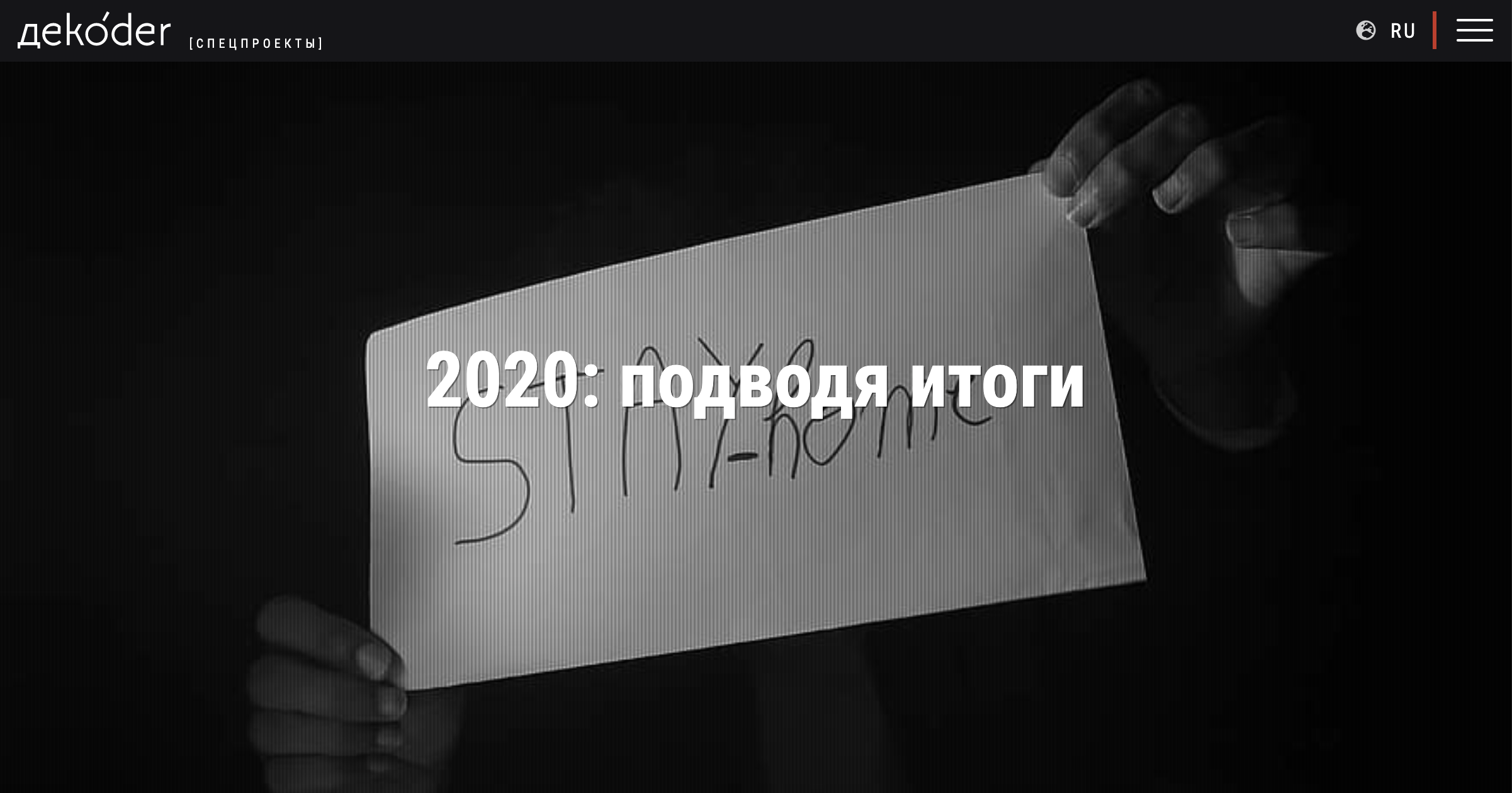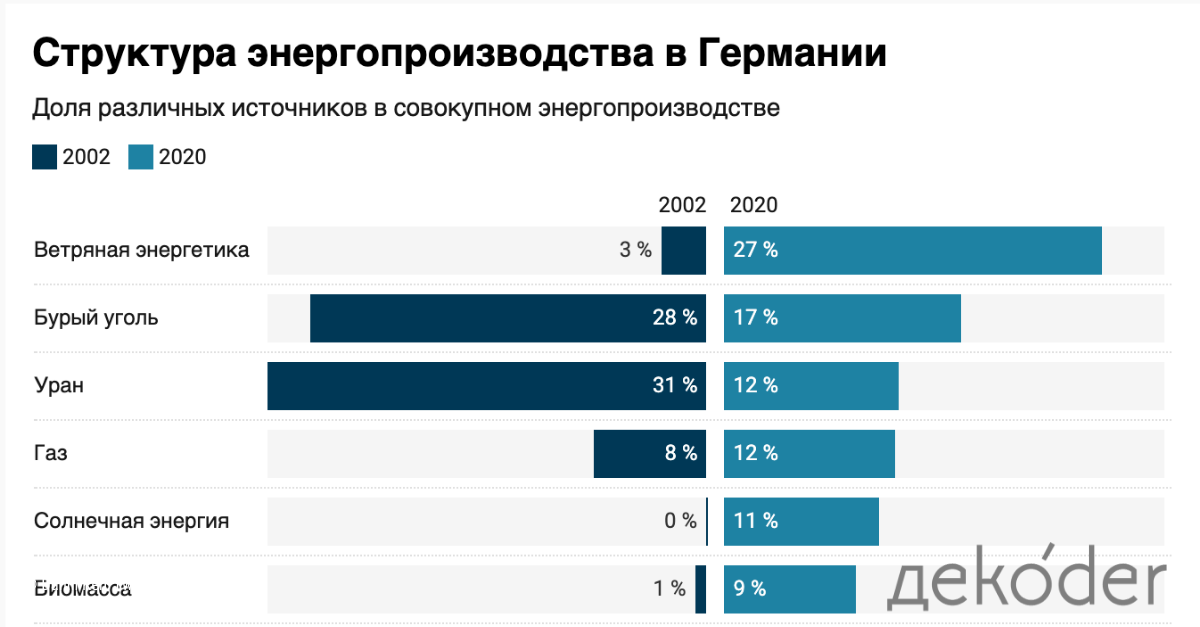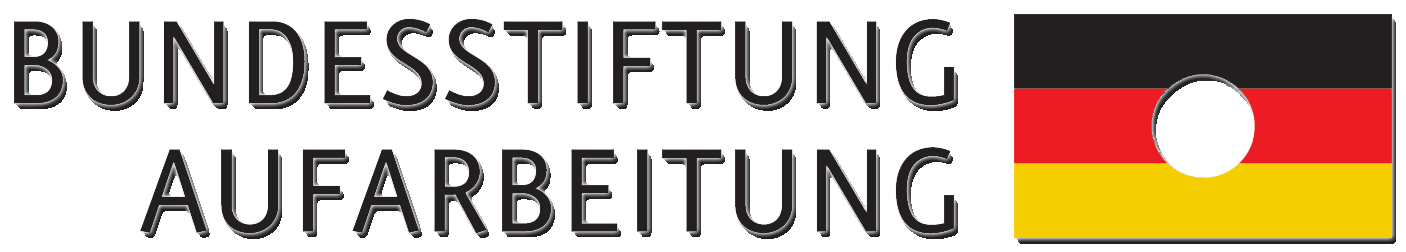Двое против Евросоюза: многие недели Польша и Венгрия блокировали принятие бюджета ЕС на следующий год размером 1,8 триллиона евро, а вместе с ним и пакет помощи для восстановления по итогам пандемии в размере 750 миллиардов евро. На саммите 10 декабря главы государств и правительств достигли компромисса. Бюджет примут, помощь выделят.
Вообще-то Польша и Венгрия — среди главных получателей европейской помощи. Так почему же они блокировали выделение средств? Причина в том, что одно из условий введения «ковидного пакета» в действие — это право ЕС штрафовать страны за нарушение ими принципа верховенства права. А критики внутри Евросоюза не первый год говорят о так называемой «нелиберальной демократии» венгерского премьер-министра Виктора Орбана и о систематическом демонтаже разделения властей в Польше.
Еще в 2016 и в 2017 годах Еврокомиссия активировала против Венгрии и Польши статью 7 договора о Евросоюзе. Польшу подозревают в нарушении принципа правового государства, Венгрию — в отказе от демократических норм и базовых европейских ценностей. Самое жесткое наказание, согласно этой статье, предполагает лишение страны права голоса в общеевропейских органах власти. Однако разбирательство тянется крайне медленно, и это одна из причин, почему в мае 2020 года ЕС решил увязать предоставление своей финансовой помощи с соблюдением правовых и демократических норм.
Кто победил в этом споре? Отвечает эксперт по политике Евросоюза Кай-Олаф Ланг — шесть вопросов и шесть ответов, просто листайте.
1. В чем суть спора?
Некоторые органы власти Евросоюза — например, Еврокомиссия и Европарламент, — а также ряд стран-членов ЕС критикуют Венгрию и Польшу за то, что в этих странах, по мнению критиков, идет концентрация власти и нарушается принцип верховенства права.
При этом в обеих странах правительства пришли к власти демократическим путем. Получив на выборах большинство голосов — в венгерском парламенте у них даже конституционное большинство, — они пошли на радикальные изменения. Реформа правовой и судебной системы в Польше привела к тому, что независимость судей оказалась под вопросом. Правительство Венгрии, как считают критики, наступает на свободу слова, подвергая критически настроенные СМИ судебному преследованию.
Осенью 2020 года Еврокомиссия впервые представила доклад о ситуации с верховенством права во всех странах-членах организации. Сейчас возникла идея создать механизм, который позволит блокировать европейские дотации в те страны, где правовое государство находится под ударом. Именно этот план и стал причиной спора о финансировании [с Польшей и Венгрией].
2. Речь действительно идет об угрозе базовым ценностям Евросоюза?
Из [европейских] договоров следуют два принципа, находящиеся друг с другом в некотором противоречии: общность ценностей у всех членов ЕС, с одной стороны, и их суверенитет — с другой. Именно поэтому Евросоюзу нелегко переходить к активным действиям, если в странах-участницах возникают проблемы с верховенством права. Польша и Венгрия утверждают, что не ставят его под сомнение. Но в первую очередь они апеллируют к тому, что Евросоюз не имеет права вмешиваться в вопросы государственного строительства и конституционной системы, поскольку это относится к компетенции самих стран-членов.
3. Что еще мог бы предпринять Евросоюз, чтобы не допустить разрушения правового государства?
В Евросоюзе существует целый ряд инструментов, призванных обеспечить соблюдение принципов правового государства. В случае нарушения закона может быть начато разбирательство по специальной процедуре. Решения, принятые Европейским судом в рамках этой процедуры, обязательны к исполнению для стран ЕС. Кроме этого, есть несколько «мягких» механизмов, к ним относятся среди прочего некоторые форматы диалогов. Есть и наиболее мощный инструмент — статья 7 договора о Европейском союзе, на основе которой могут быть даже приостановлены права членства в организации.
4. Очевидно, в случае Венгрии и Польши статья 7 не сработала. Почему?
Процедура, предусмотренная в этой статье, не отличается быстротой. Штрафные санкции могут быть очень тяжелыми, поэтому барьеры, которые необходимо преодолеть для их введения, намеренно сделаны очень высокими. Так, нужно заручиться поддержкой ⅘ государств, которые бы признали «несомненную опасность тяжелых нарушений» основополагающих ценностей ЕС в одной из стран — и это только первый шаг. Если затем эти нарушения не устраняются, то в качестве второго шага европейские государства — разумеется, за вычетом той страны, дело которой рассматривается, — должны единогласно признать, что в действительности существует «серьезное» и одновременно «продолжительное» нарушение принципов и ценностей. Только после этого квалифицированным большинством голосов могут быть приняты постановления о санкциях.
То есть мы видим, что путь к принятию решений на основании статьи 7 — длинный и трудный. Значение этой статьи, таким образом, скорее символическое — запуск процедуры в соответствии с ней служит сигналом, что ЕС готов прибегнуть к крайним мерам. При некоторых условиях — например, если довольно активная часть общества настроена проевропейски — это может иметь определенное внутриполитическое значение. Но на правительства [Польши и Венгрии] запуск этой процедуры большого влияния до сих пор не оказал.
5. Каков был план ЕС до встречи в верхах?
Обе стороны озаботились тем, чтобы их угрозы были наглядны: Польша и Венгрия грозили наложить вето, а в ответ им дали понять, что фонд восстановления экономики можно сделать и для 25 стран ЕС, без их участия. То есть Варшава и Будапешт рисковали остаться без многомиллиардной европейской помощи, столь необходимой в период пандемии. Главы правительств обеих стран понимали, что блокада грозила бы им политическим ущербом — многие страны-члены ЕС не забыли бы о том, как много времени в период глобального кризиса было потрачено на восстановление стабильности и солидарности внутри сообщества.
6. Что изменила встреча в верхах?
Перед нами классический образец соглашения в рамках ЕС. Множество составляющих, некоторые пункты, которые только предстоит истолковать, и, конечно, компромиссы с обеих сторон. Текст нового Положения о финансовых условиях для защиты верховенства права остался без изменений. Однако Польша и Венгрия добились принятия дополнительного разъяснения, согласно которому новое Положение сначала должно быть согласовано с Европейским Судом. Процедура займет какое-то время и может продлиться до 2022 или 2023 года. Виктору Орбану это сыграет на руку, поскольку ближайшие парламентские выборы пройдут в начале 2022 года.
В целом можно сказать, что, невзирая на противодействие со стороны отдельных стран-участниц, ЕС сможет активировать новый механизм. В таком случае после длительной и сложной процедуры средства ЕС заморозят. Польшу и Венгрию не удастся оштрафовать за любое нарушение принципа верховенства права, но получится — за те, которые могут негативно сказаться на использовании средств, выделяемых Евросоюзом. Для тех, кто требовал решительных действий, этого мало. Но если оглянуться назад, то все же это — новый инструмент, на появление которого многие не рассчитывали. Впрочем, случившееся нельзя назвать поворотным моментом. Споры и борьба за верховенство права будут продолжаться.
Текст: Кай-Олаф Ланг
24.12.2020
Читайте также
Как вывести экономику из «коронакризиса»?
Пандемия дает Германии и Европе второй шанс на объединение. Часть 1
Пандемия дает Германии и Европе второй шанс на объединение. Часть 2