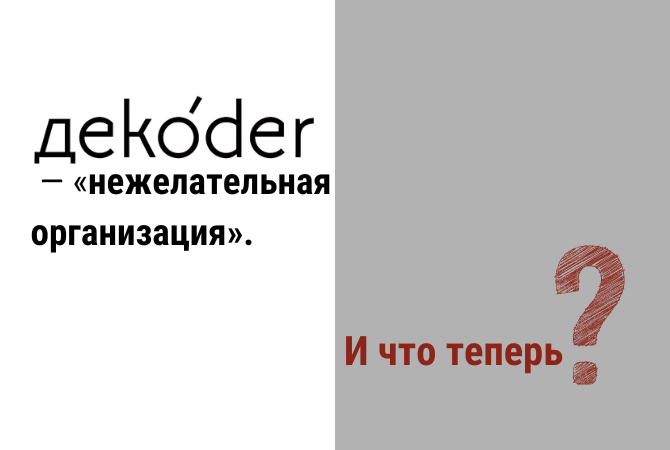Летом 2022 года немецкие власти решились на смелый эксперимент — ввели единый билет на все виды общественного транспорта, кроме скоростных поездов (и, разумеется, такси и самолетов), по которому можно было передвигаться по всей стране. Сделано это было на фоне всеобъемлющего роста цен из-за разрыва экономических отношений с Россией и войны в Украине, после оскудения пассажиропотоков в период пандемии — и ради уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Идея была в том, чтобы пересадить водителей из машин на общественный транспорт.
В июне, июле и августе 2022 года цена билета составляла 9 евро. В мае следующего года ему на смену пришел Deutschlandticket за 49 евро в месяц. Программа будет действовать, как минимум, до 2025 года, ежегодно она обходится в 1,5 миллиарда евро.
При этом министерство цифровой инфраструктуры и транспортного сообщения сразу же начали критиковать за новую цену — по мнению оппонентов, она слишком высока для того, чтобы привлечь новых пассажиров из числа владельцев автомобилей. В мае 2024 года Берлин объявил, что вводит собственный городской месячный проездной по 29 евро, за что, в свою очередь, получил порцию критики от федерального министра Фолькера Виссинга — тот обвинил столичные власти в том, что они с большим скрипом соглашались на софинансирование Deutschlandticket, но нашли деньги на более дешевый билет. По мнению Виссинга, подобный демпинг ставит под угрозу совершенно необходимую реконструкцию транспортной сети — и, прежде всего, железнодорожной, которая из-за многочисленных опозданий и поломок в последние годы стала настоящей притчей во языцех.
В свою очередь, Андреас Кни из берлинского Научного центра социальных исследований давно настаивает на том, что 29 евро — это именно та цена, которая должна быть установлена на Deutschlandticket ради достижения климатических целей. Более того, в него должны входить все виды наземного транспорта. А в пример эксперт приводит Австрию. Даже несмотря на то, что там единый билет существенно дороже. Читайте его интервью изданию Riffreporter в переводе дekoder’а.
Кристиане Шульцки-Хадути: В Австрии с 2021 года действует «экобилет» — KlimaTicket. Насколько успешно?
Андреас Кни: KlimaTicket стал настоящей вехой. Только подумайте: всего тысяча евро в год за проезд по всей стране. Железная дорога Австрии смогла договориться с местными транспортными ассоциациями. Это большое дело. Билетом KlimaTicket сейчас пользуется почти 300 тысяч человек — и только у 100 тысяч из них раньше был абонемент.
Иными словами, благодаря новому билету примерно 200 тысяч человек стало активно пользоваться общественным транспортом. Это, безусловно, большой успех.
— Действительно, впечатляет. То есть новый билет реально повлиял на то, как люди передвигаются по Австрии?
— Эффект, может быть, и не гигантский, но ощутимый. Люди больше пользуются общественным транспортом, реже садятся за руль. В общем, в Австрии удалось создать достаточно привлекательное предложение, мотивирующее пересесть из машины в автобус. Это, конечно, касается крупных городов и их окрестностей. Эффект вполне измеримый: собственно, подсчетами сейчас как раз и занимаются две организации: “infas” и “Motiontag”.
Автомобилей на немецких улицах заметно меньше не стало
—Ну а немецкий проездной Deutschlandticket можно назвать «экобилетом»?
— Этот билет приобрели одиннадцать миллионов человек — но всего около 3% из них не пользовались Deutsche Bahn и местными транспортными сетями раньше. Иными словами, автомобилей на улицах заметно меньше не стало. По крайней мере, на данный момент замеров, которые свидетельствовали бы об обратном, нет.
Около четверти обладателей Deutschlandticket стали пользоваться общественным транспортом чуть активнее, чем прежде. Они рады этой возможности — но вот среди автомобилистов мало кого заинтересовал новый проездной. Их привлечь не удалось.
— А вот эта четверть сама по себе не внесла существенного вклада?
— В основном это люди, у которых нет автомобиля и которые и так крайне редко садились за руль. Сейчас они стали мобильнее — скажем, ездят на автобусе шесть раз в неделю, а не три. Почти все обладатели Deutschlandticket и раньше пользовались трамваями и электричками, часто по какому-то другому абонементу. Только у меньшинства из них есть и автомобиль — в первую очередь, у людей, живущих в пригородах.
— Значит, Deutschlandticket приносит пользу скорее обществу, чем климату?
— Совершенно верно. Это скорее социальный, чем экобилет. Ездить по всей стране за 49 евро, вот это да, такого еще не бывало!
Воздействие на общество — это, конечно, тоже хорошо. Мы хотим, чтобы люди с удовольствием пользовались транспортом, чтобы отдельные регионы не оставались в изоляции за пределами транспортной сети. Малообеспеченные люди благодаря новому билету стали мобильнее. Транспорт — это ведь не только вопрос климата, это и вопрос общественного развития.
— Но вот обеспеченные слои Deutschlandticket не заинтересовал. Интересно, почему?
— Когда проездной стоил 9 евро, они были тут как тут. Неожиданно именно люди с большими деньгами купили его [из соображений солидарности — дekoder], среди них он пользовался особой популярностью. Даже несмотря на то, что потом они почти им не пользовались.
Чтобы Deutschlandticket действительно приносил пользу экологии, он должен действовать везде
— А как же сделать так, чтобы билет приносил пользу не только обществу, но и климату? 9 евро — это явно бросовая цена, на постоянной основе ее не удержишь.
— Вы совершенно правы. Мы подробно изучили этот вопрос: какая цена привлекла бы автомобилистов, которые считают, что общественный транспорт — дело слишком путанное и сложное? Наш ответ: 29 евро.
Важно: в эти 29 евро должна входить вся дорога — «от первой до последней мили», то есть в билет должно быть включено что-то вроде такси, которое при необходимости отвезет к остановке и от остановки.
— На что распространялся бы этот билет за 29 евро?
— На все. Чтобы Deutschlandticket действительно приносил пользу экологии, чтобы люди пересели из автомобилей на общественный транспорт, он должен действовать везде: в пригородном сообщении, в поездах дальнего следования и на «последней миле» тоже.
— А деньги на такой проездной у государства нашлись бы?
— Он обошелся бы дополнительно в 12 миллиардов евро. Эту сумму как раз удалось бы собрать, перестав субсидировать дизель, отказавшись от «привилегии служебных машин» и прекратив компенсировать расходы на дорогу до работы.
— В Австрии проездной (включая «последнюю милю») стоит примерно 90 евро в месяц. Возникает вопрос: что важнее — цена или удобство? Может быть, в Германии люди садятся за руль в первую очередь потому, что боятся опоздать и считают общественный транспорт ненадежным? Австрийские железные дороги куда пунктуальнее немецких.
— Этот вопрос мы подробно изучили. Конечно, это тоже важный аспект. Но люди задумываются о нем не в первую очередь. Обычно рассматриваются три критерия в таком порядке: во-первых, цена — «о, дешево!» Во-вторых, простота системы: все включено в одну цену. Этого уже достаточно, чтобы всех убедить. Только на третьем месте — чтобы все надежно работало.
Но в целом это три критерия, от которых зависит решение. Если все они будут в порядке, вплоть до десяти миллионов человек пересядет на общественный транспорт.
Это как при торговле наркотиками: когда люди уже «подсели», когда система работает, тогда поднимайте цену
— Какие расценки вы тестировали?
— Мы проводили исследование, когда цена была еще 9 евро и обсуждалось, что придет на смену. Большинство респондентов называло цены от 29 до 35 евро. Так что мы уже тогда говорили, что Deutschlandticket за 49 евро не сработает, слишком дорого.
Чтобы уговорить автомобилистов пересесть на общественный транспорт, их надо по-настоящему впечатлить. В противном случае люди не станут изменять своим устоявшимся привычкам.
— Вы считаете, что проездной за 29 евро будет привлекателен даже несмотря на проблемы немецких поездов с пунктуальностью?
— Именно так. Такая цена поможет побороть скепсис: за 29 евро можно и рискнуть. Вот будет транспорт в Германии работать, как в Австрии, а то и в Швейцарии, тогда можно повышать и цену. Это как при торговле наркотиками: когда люди уже «подсели» (в нашем случае — пересели), когда система работает, вот тогда поднимайте цену. Это же понятно. 29 евро — только «первая доза».
—Будет ли выплачиваться компенсация за опоздавшие и отмененные поезда при цене в 29 евро?
— Нет. Так было и раньше: когда поезд не пришел, это проще простить, если заплатил за весь месяц всего 9 евро. Или даже 29. Сейчас это была бы самая подходящая стартовая цена для проездного по Германии.
— Когда будет произведена независимая оценка проекта Deutschlandticket?
— Министерство [цифровой инфраструктуры и транспортных сообщений] не очень торопится: совсем недавно только объявили тендер на такой анализ. Между тем результат уже налицо — этот билет не мотивирует пересесть из машины в автобус. Это давно ясно и всем известно.
— Во время пандемии люди стали избегать общественного транспорта и только постепенно начали к нему возвращаться. Что с этим сейчас?
— Местное сообщение уже вернулось к доковидному уровню. А вот поезда дальнего следования и самолеты заполнены на 20-30% меньше, чем до пандемии.
— Многие работают из дома, созваниваются по зуму…
— Да, это новая норма. Есть и конкретные данные: 25% застрахованных работников в Германии работают удаленно 2,5 дня в неделю. В результате по стране ездят меньше.
Те, кто часто ездит первым классом, замечают, что пропали люди, которые раньше вечно стучали по клавишам ноутбуков. Теперь они делают это из дома — по крайней мере, 2-3 дня в неделю.
Это создает для железной дороги структурную проблему — возможно, недостаток этих 20-30% так и не будет восполнен в обозримом будущем.
Кто сегодня ездит на общественном транспорте? Люди с низкими доходами
— А на автострадах?
— Автомобили — подлинная экологическая проблема Германии. Количество выхлопных газов не уменьшается. Но сейчас мы и здесь наблюдаем эффект удаленной работы. Люди ездят примерно на 5% меньше, чем до ковида. Этого недостаточно для достижения климатических целей в транспортной сфере, но процесс хотя бы пошел.
— Почему количество поездок за рулем уменьшилось не так сильно, как по железным дорогам? Получается, что в процентном отношении люди стали еще чаще выбирать машину?
— Если мы посмотрим на распределение потоков по видам транспорта, то увидим, что доля автомобилей на улицах во время пандемии и после нее практически не изменилась. Что касается общественного транспорта, то тут потери больше — в общей сложности около 15 процентных пунктов по сравнению с допандемийным уровнем.
— Связано ли это с тем, как работает железная дорога?
— В том числе. Кто сегодня ездит на общественном транспорте? Люди с низкими доходами. В сельской местности практически никто. Общественный транспорт сохраняет популярность разве что в крупных агломерациях, среди жителей пригородов.
— Значит, железная дорога потеряла средний класс и тех, кто выше?
— Да. Потери здесь значительно выше, чем среди клиентов с низким доходом. Это люди, для которых решающий аргумент — не цена, а комфорт, удобство, пунктуальность.
И здесь мы возвращаемся к важному для нас нюансу. Билет за 9 евро был гигантским проектом эмоциональной солидарности. Нам нужно снова добиться того же эффекта. И для этого не обязательно понижать цену до 9 евро — достаточно 29. Так мы заполучим людей, у которых действительно много денег и которые скажут: «Да пожалуйста, при такой цене я в деле».
— Deutsche Bahn сейчас активно ремонтирует пути — дает ли это надежду на улучшения?
— Увы, нет. Это ремонт по принципу вырубки. Важные линии просто закрывают на целые месяцы. Представьте себе, что так поступали бы при ремонте автобана! Нет, дороги чинят, не перекрывая полностью автопоток. Ощущение, что ремонт путей планировали люди, никогда в жизни не ездившие на поезде.
— Как временное закрытие маршрутов влияет на людей?
— Те немногие, кто еще пользуется поездами дальнего следования, будут искать другие варианты, и большинство из этих клиентов не вернется. Будет у нас прекрасно отремонтированная железная дорога без пассажиров — люди успеют найти альтернативу. Но может быть, Deutsche Bahn еще возьмется за ум.
Читайте также
Немецкие «зеленые» — из радикалов в истеблишмент
Германия — чемпион мира по борьбе с парниковым эффектом?
«Почему в Германии так много бастуют — и будут ли бастовать еще больше?» Спрашивали? Отвечаем!