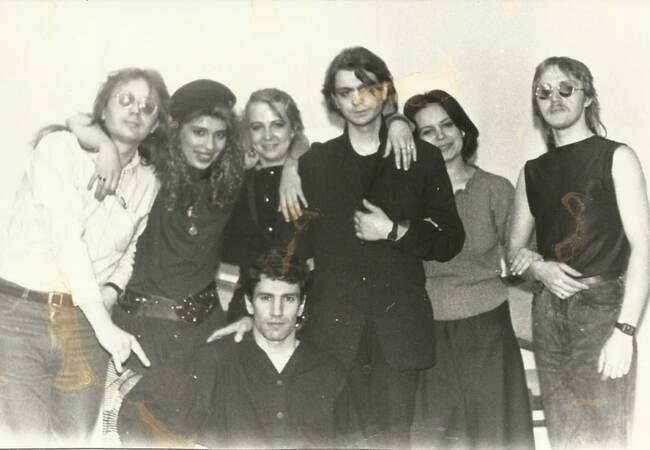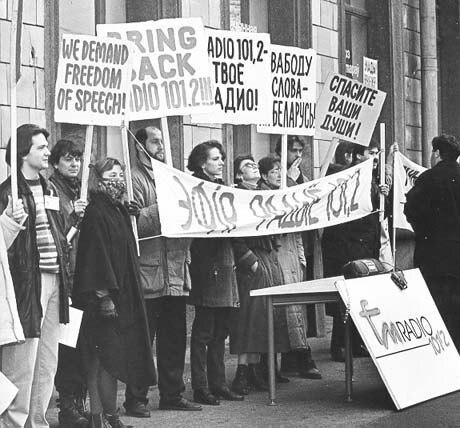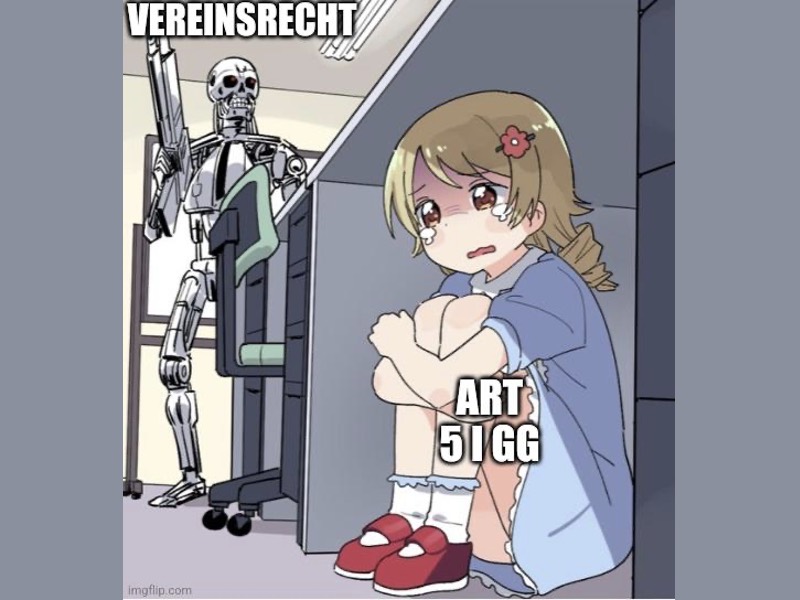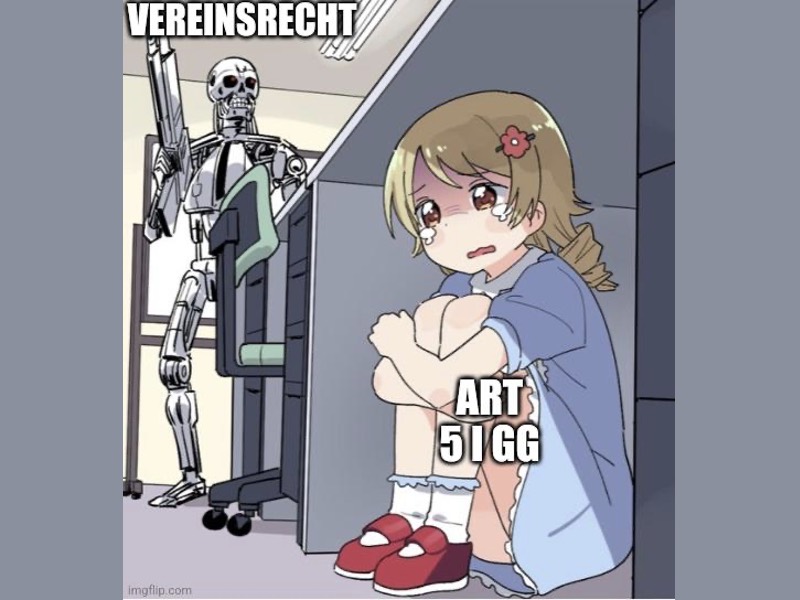Образованная чуть больше десяти лет назад, партия «Альтернатива для Германии» 1 сентября впервые в своей истории победила на земельных выборах. В Тюрингии крайне правые набрали 32,8% голосов, почти на 10 процентных пунктов больше, чем пять лет назад, и смогут получить 32 кресла в ландтаге, состоящем из 88 депутатов. В Саксонии, как и пять лет назад, АдГ стала второй, но также укрепила свои позиции: вместо 27,5% за нее проголосовало 30,6% участвовавших в выборах.
«Альтернатива» известна тем, что выступает за резкое ограничение миграции, вплоть до высылки из Германии миллионов людей с миграционным прошлым, за восстановление отношений с Россией, за продвижение так называемых «традиционных ценностей». Многие ее функционеры позволяли себе высказывания, нормализующие национал-социалистическую диктатуру и ее преступления. Особенно в этом отличилось как раз тюрингское отделение партии, признанное Ведомством по защите конституции «явно правоэкстремистским», и его лидер Бьорн Хёке, которого судили за использование в речах нацистских лозунгов.
Еще один триумфатор этих выборов — «Альянс Сары Вагенкнехт», объединившийся меньше года назад вокруг бывшего политика от партии «Левые» под лозунгами немедленного отказа от военной помощи Украине и борьбы против утвердившихся партий в целом. И в Саксонии, в Тюрингии новая партия сформирует третьи по численности фракции в ландтагах.
В Саксонии первыми, а в Тюрингии вторыми стали христианские демократы, получив 31,9% и 23,6% соответственно. С одной стороны, это больше, чем набрали все правительственные партии вместе взятые: социал-демократы канцлера Шольца, «Зеленые» и свободные демократы, которые и вовсе потеряли кресла в обоих ландтагах («Зеленые» только в Тюрингии). С другой стороны, теперь ХДС предстоят тяжелые коалиционные переговоры ради того, чтобы не допустить АдГ к власти.
дekoder собрал мнения о причинах краха правительственных партий на востоке Германии и успеха, достигного радикалами. Ключевой вывод — легко в борьбе за власть не придется никому, даже АдГ. Следующие выборы пройдут 22 сентября в Бранденбурге, еще одной земле на территории бывшей ГДР.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить ничего из главных новостей и самых важных дискуссий, идущих в Германии и Европе. Это по-прежнему безопасно для всех, включая граждан России и Беларуси.

DIE ZEIT: АдГ будет заправлять, даже если не будет править
Газета DIE ZEIT подробно изучила то, как «Альтернатива для Германии» может воспользоваться своим успехом на выборах — сейчас и в более отдаленной перспективе. И первое на этом пути — борьба за пост председателя ландтага Тюрингии. Согласно неписаной парламентской традиции, крупнейшая фракция — то есть в этом случае АдГ — выдвигает своего кандидата на пост председателя ландтага. Теоретически другие фракции могут отказать в избрании кандидату от «Альтернативы», но столь явный отход от многолетней практики чреват судебными исками и тем, что пропагандистам АдГ будет еще легче продвигать ее образ жертвы «картельного сговора» других партий. Если же кандидат от АдГ займет пост председателя ландтага, то это сразу же усилит ее влияние на повседневную парламентскую работу.
Ключевой, однако, станет борьба за другой пост — премьер-министра (министра-президента) каждой из земель. В Тюрингии дело осложняется тем, что местное отделение АдГ возглавляет Бьорн Хёке — один из самых одиозных политиков этой партии, которого противники именуют не иначе, как «фашистом» (и который приехал голосовать на «Ниве»). По данным DIE ZEIT, нельзя исключить, что ради вхождения в правительство партия решит убрать его с первого плана в надежде, что «Альянс Сары Вагенкнехт» или даже христианские демократы согласятся на сотрудничество в такой конфигурации. Тот факт, что Хёке не присутствовал на партийной пресс-конференции сразу после оглашения результатов выборов, также свидетельствует в пользу такой возможности.
Еще один вариант — что «Альтернатива» попытается своими голосами обеспечить победу кандидата от христианских демократов: пять лет назад подобный ход вызвал скандал общенационального масштаба и вынудил победившего политика от Свободной демократической партии Томаса Кеммериха уйти в отставку. Впрочем, при нынешней политической турбулентности не факт, что ХДС кто-то будет склонять к отказу от мандата, полученного даже такой ценой.
В свою очередь, в Саксонии действующий премьер-министр от ХДС Михаэль Кречмер заявлял, что ни в коем случае не пойдет на союз с АдГ. Однако, по данным DIE ZEIT, среди местных христианских демократов нет единодушия по этому вопросу, а сам Кречмер шел на выборы, обещая ужесточить миграционную политику — подобно «Альтернативе».
Что выгоднее самой АдГ — вступать в коалицию любой ценой или оставаться в оппозиции — вопрос дискуссионный. С одной стороны, находясь в оппозиции, крайне правые могут и дальше набирать популярность на протестных настроениях. С другой, в среднесрочной перспективе избиратели могут счесть партию не способной к реальной политической работе и разочароваться в ней.
Так или иначе, в Тюрингии АдГ получила блокирующий пакет голосов — больше трети депутатских мест, — благодаря которому сможет единолично блокировать поправки к местной конституции, а также назначение судей в местный Конституционный суд. Кроме того, она получит дополнительное влияние и на местное Ведомство по защите конституции. В Саксонии партия остановилась в шаге от этого, получив ровно треть парламентских кресел.
Оригинал (01.09.2024) // Google-перевод
NZZ: Утвердившиеся партии слишком долго игнорировали проблемы востока
Швейцарская газета NZZ резюмирует содержание дебатов о востоке Германии, которые с особой силой возобновились несколько месяцев назад, когда стало понятно, что победы популистов в этой части страны фактически неизбежны. Издание отмечает, что ключевые политические силы годами игнорировали то, о чем на разные лады говорили специалисты: не проработанное наследие двух диктатур (нацистской и коммунистической) на территории бывшей ГДР и сложный процесс обретения ее гражданами новой идентичности после 1990 года. Вместо того, чтобы уделить этим проблемам пристальное внимание, утвердившиеся партии вели себя так, будто объединение Германии полностью завершено и к восточным землям следует относиться как к любым другим.
NZZ ссылается на выросшего в Восточном Берлине историка Илько-Сашу Ковальчука, который незадолго до выборов издал книгу «Шок свободы» (Freiheitsschock). По его мнению, даже несмотря на то, что уровень жизни на востоке Германии объективно вырос, восточные немцы чувствовали, с одной стороны, что полностью зависят от процесса трансформации, а с другой, что трудности, с которыми они сталкиваются, никто не замечает. Кроме того, вопреки распространенному образу «мирной революции» и падения Берлинской стены, боролось за свободу лишь меньшинство восточных немцев, в то время как остальные были вполне адаптированы к жизни в условиях диктатуры. И эти последние теперь проецируют свою привычку к авторитарному государству на АдГ и «Альянс Сары Вагенкнехт». Крупнейшие партии предпочли просто вычеркнуть опыт ГДР из своего осмысления немецкой истории, чем не преминули воспользоваться популисты, которые, наоборот, эксплуатируют «остальгию».
Особенно тяжело объединение далось поколению людей, родившихся в 1940-е и 1950-е годы: в 1990 году они были слишком молоды, чтобы уйти на пенсию, и слишком зрелы, чтобы резко поменять жизнь. Их дети наблюдали карьерные провалы своих родителей и выросли с ощущением, что живут в семьях «граждан второго сорта». Так «травма воссоединения» передалась по наследству. Год назад, ссылаясь на исследование Лейпцигского университета, NZZ писала и о том, что восточные немцы крайне слабо представлены на ведущих постах в политике, экономике, юстиции и образовании: 3,5% выходцев оттуда занимают их в целом по Германии и 26% — даже в самих восточных землях. Теперь молодежь составляет одну из ключевых когорт избирателей АдГ. Интересно, к слову, что сам Бьорн Хёке родился и вырос на западе Германии и только во взрослом возрасте перебрался в Тюрингию.
Оригинал (01.09.2024) // Google-перевод
Süddeutsche Zeitung: «Непростые решения» христианских демократов
Журналисты Süddeutsche Zeitung обращают внимание на то, что федеральное руководство Христианско-демократического союза не торопилось подводить итоги земельных выборов. Только в середине следующего дня председатель партии Фридрих Мерц вышел к журналистам и обошелся без оптимистичных реляций. Причин для этого хватает — и имиджевых, и объективных. Во-первых, показать свое отличие от канцлера Шольца, чья невозмутимость в любых ситуациях стала притчей во языцех. Во-вторых, потому что ХДС в Саксонии и особенно в Тюрингии, по всей видимости, действительно ждут непростые решения. Самое напрашивающееся из них — переговоры о коалиции с «Альянсом Сары Вагенкнехт», который за несколько месяцев взлетел в рейтингах благодаря требованиям начать переговоры с Россией и отказаться от поддержки Украины (что категорически расходится с позицией ХДС) и который при этом привержен левой экономической политике. Роднит с ним христианских демократов разве что требование ужесточить миграционную политику.
На пресс-конференции Мерц сказал, что местные отделения ХДС вольны сами принимать решения о переговорах с «Альянсом». Но действующий премьер Саксонии Кречмер еще раньше успел заявить, что христианские демократы в этой земле будут принимать решения самостоятельно, без оглядки на Берлин. Чем лишний раз продемонстрировал, что позиции самого Мерца в партии (и его шансы на выдвижение в канцлеры в следующем году) далеко не стопроцентно устойчивы.
В Тюрингии между тем ситуация еще сложнее. Там ХДС для устойчивого большинства необходимо договориться не только со сторонниками Вагенкнехт, социал-демократами, а еще и с «Левыми». Между тем еще в 2018 году христианские демократы приняли официальное решение отказаться от любого сотрудничества не только с АдГ, но и с «Левыми» тоже — из-за исторической преемственности этой партии по отношению к СЕПГ, установившей в ГДР однопартийную диктатуру (такого запрета на сотрудничество с экс-коммунисткой Вагенкнехт при этом нет, хотя некоторые христианские демократы теперь настаивают и на его введении). Более того, одна из вновь избранных депутаток ХДС успела заявить, что христианские демократы не должны отказываться от переговоров даже с «Альтернативой».
Оригинал (02.09.2024) // Google-перевод
taz: Сложное дело — делать королей
«Делателями королей» в парламентских демократиях называют политические силы, которые, не став крупнейшими, тем не менее играют решающую роль при формировании большинства — без их участия оно невозможно. В Тюрингии и Саксонии эту функцию должен взять на себя «Альянс Сары Вагенкнехт», которому предстоит сформировать третью по численности фракцию в обоих земельных парламентах.
Теоретически новая партия могла бы пойти на союз с «Альтернативой для Германии» и сформировать большинство в Тюрингии, но в «Альянсе» уже заявили, что исключают такую возможность. В Саксонии у популистских сил и вовсе на двоих меньше половины мест в ландтаге. Поэтому почти неизбежно, что сторонникам Вагенкнехт нужно будет договариваться с христианскими демократами и, возможно, с другими старыми партиями.
Газета taz объясняет, с какими проблемами предстоит столкнуться партии, которой не исполнилось и года. Главная из них в том, что до сих пор непонятно, как будет выстроено взаимодействие между ее центральными органами, в первую очередь самой Сарой Вагенкнехт, и местными отделениями.
Для Вагенкнехт ключевая тема — это восстановление отношений с Россией, отказ от размещения американских ракет в Германии и прекращение поставок оружия Украине. Она не скрывает, что готова вступать в коалицию с христианскими демократами и социал-демократами на местном уровне только при условии, что те радикально поменяют свою позицию по общенациональным вопросам. В то же время ее соратники на местах куда больше сосредоточены на региональных проблемах, связанных, например, с доступностью общественного транспорта и развитием инфраструктуры в целом. Часто это бывшие члены партии «Левых», которые разочаровались в ее способности решать проблемы маленьких городов и сельской местности (в Тюрингии «Левые» были правящей партии на протяжении десяти лет).
Много среди них и новичков, для которых коалиционные переговоры с опытными политиками могут оказаться тяжелым испытанием. Кроме того, именно новые партии часто сталкиваются с тем, что их покидают депутаты. Из той же «Альтернативы для Германии» в предыдущие два законодательных периода вышло по три депутата за каждый.
Оригинал (02.09.2024) // Google-перевод
Spiegel: Партия, теряющая статус «общенародной»
Бывший главный редактор таблоида Bild Николаус Бломе на страницах журнала Spiegel напоминает, что выборы в Саксонии и Тюрингии прошли через неделю после нападения мигранта из Сирии на жителей города Золингена (Северный Рейн — Вестфалия), в результате которого погибло три человека. По мнению Бломе, реакцией на это событие социал-демократы демонстрируют собственную некомпетентность: сначала пытаясь представить этот теракт (а до него многие другие) как единичный случай, а потом соглашаясь на жесткие меры вроде высылки мигрантов в «небезопасные страны», подобные Сирии и Афганистану, которые еще недавно называли популистскими и антиконституционными. Бломе уверен: партия теряет право называться «общенародной», если не способна адекватно оценивать степень напряжения вокруг значимой для общества темы, пусть даже оно эмоциональное, а не основанное на так называемых объективных показателях.
Оригинал (03.09.2024) // Google-перевод
Leipziger Zeitung: Бессмысленные обвинения
Независимый саксонский журналист Томас Кёлер на страницах лейпцигской газеты Leipziger Zeitung критикует повторяющиеся, как мантра, заявления о том, что ответственность за рост популярности популистов несут исключительно социал-демократы и «Зеленые». Он напоминает о просчетах, допущенных крупными работодателями, которые неверно оценивают конъюнктуру рынка, тем самым ухудшают перспективы рабочих, толкают их к голосованию за «Альтернативу» или «Альянс», а потом винят во всем (устами лидера ХДС Фридриха Мерца, в прошлом инвестбанкира) левых в правительстве. В качестве примера Кёлер приводит действия топ-менеджмента Volkswagen, который сделал ставку на электромобили класса люкс и, очевидно, проиграл конкуренцию иностранным производителям, работающим на масс-маркет. Еще более явный пример — министр финансов и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, который вместо того, чтобы объяснить, почему упорно настаивает на урезании социальных расходов в период постоянного роста цен, после провальных для своей партии выборов обсуждает миграцию. Кёлер уверен: обвинения других партий в адрес социал-демократов и «Зеленых» не помогут остановить АдГ в преддверии будущих выборов в Бундестаг, «когда бы они не состоялись» (назначены они на сентябрь 2025 года, но могут пройти и раньше, если «светофорная» коалиция развалится).
Оригинал (03.09.2024) // Google-перевод
taz: Чем отличается «Берлинская область»
Следующие земельные выборы пройдут 22 сентября в Бранденбурге, непосредственно прилегающем к немецкой столице. Судя по опросам (последний из которых относится, однако, к началу августа), «Альтернатива для Германии» лидирует и там, однако газета taz обращает внимание на ряд ключевых отличий этой земли от Саксонии и Тюрингии. Во-первых, рейтинги АдГ там не многим выше, чем ее результат на земельных выборах 2019 года. Во-вторых, в Бранденбурге, в отличие от двух других восточных земель, население в годы после воссоединения не снижается, а растет — между тем «Альтернатива» 1 сентября показала особенно высокие результаты именно в наиболее опустевших районах. К тому же в Бранденбурге АдГ в 2019 году уже лидировала в рейтингах, но в итоге уступила социал-демократам.
Наконец, популярностью пользуется действующий премьер-министр Дитмар Войдке, представляющий как раз СДПГ, работу которого одобряет свыше 55% опрошенных. Впрочем, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов также обладает высоким личным рейтингом, но «Левым», которых он представляет, это не помогло.
«Альтернатива» в Бранденбурге тем временем явно не собирается останавливаться на своем пути к дальнейшей радикализации и предлагает, например, запретить мигрантам посещать общественные мероприятия. В связи с чем левая taz напоминает: попытка перехватить подобную повестку не особенно помогла утвердившимся партиям ни в Саксонии, ни в Тюрингии.
Оригинал (02.09.2024) // Google-перевод
Текст: Редакция дekoder’а
Опубликовано: 05.09.2024
Читайте также
«Лучший результат воссоединения — это посудомоечная машина»
Что пишут: о поляризации и расколе немецкого общества
А если «Альтернатива для Германии» и правда придет к власти?
Парламент — не место для работы
«Не все было напрасно»: чем похожи и чем отличаются ностальгия по СССР и «остальгия» в Германии