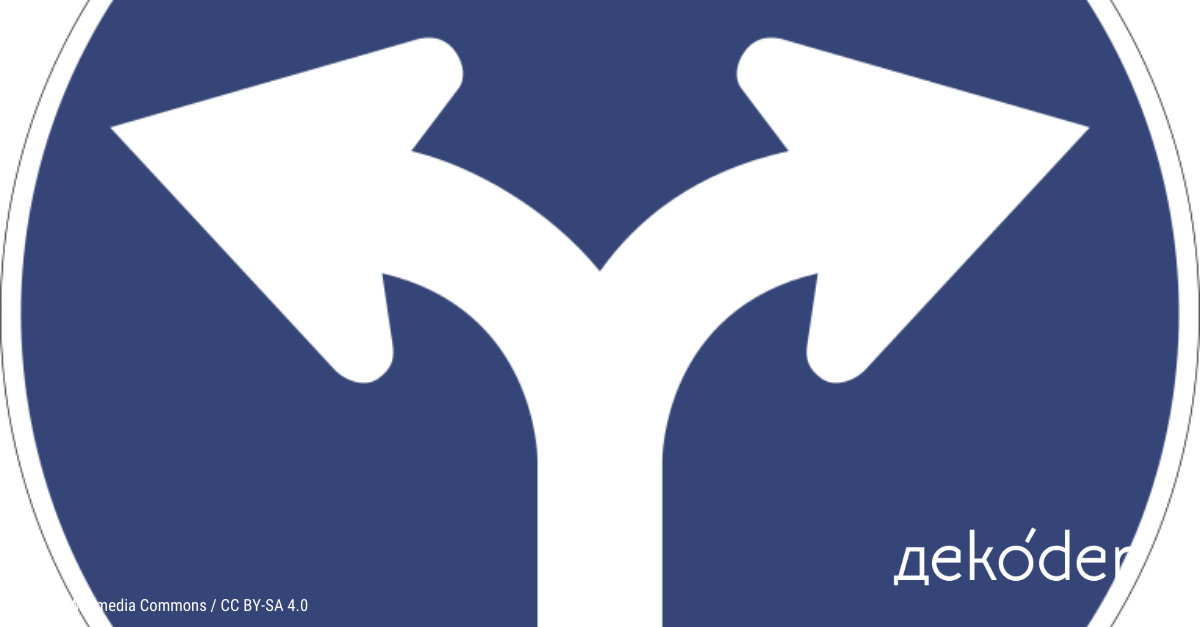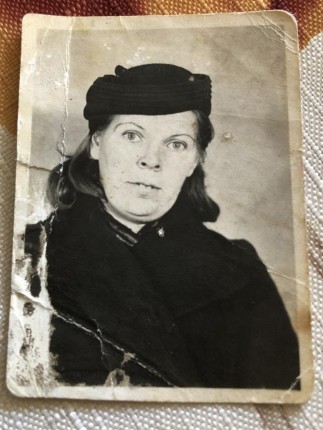Важным симптомом и одновременно причиной кризиса демократии на Западе часть наблюдателей считает размывание границ между старыми правыми и левыми партиями. Они с тревогой отмечают, что избирателю все труднее разобраться в нюансах программных различий христианских демократов и социал-демократов в Германии или консерваторов и лейбористов в Великобритании. Это ведет к подъему таких сил, как «Альтернатива для Германии», и фигур, подобных Дональду Трампу, способных вернуть политике если не идеологическую, то хотя бы риторическую ясность. Соответственно, выход из кризиса многие видят в том, чтобы традиционные партии тем или иным образом вернули собственную политическую идентичность — а вместе с ней и привычную конкуренцию правых и левых сил, хорошо знакомую послевоенной Европе.
У профессора университета Франкфурта-на-Одере Андреаса Реквица, автора книги «Конец иллюзий. Политика, экономика и культура в эпоху позднего модерна» (Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne), другой взгляд на эти процессы. С его точки зрения, деление на правых и левых, кажущееся таким логичным и разумным, что отход от него воспринимается как кризис, изжило себя в исторической перспективе. Политическое развитие он видит не в возврате к «старым-добрым временам», а в поиске новых форм либерализма, который сочетал бы в себе привычную открытость и навыки регулирования.
Эта идея, которая может показаться не слишком прорывной, может дать импульс для нового политического языка, на котором обсуждались бы не старые описательные клише («левые», «правые»), а реальные сегодняшние проблемы. Эти идеи он развивает в колонке для журнала taz FUTURZWEI.
Условное деление политического спектра на «левых» и «правых» оформилось еще во времена Французской революции и используется до сих пор. Но для понимания политической истории Запада после 1945 года и для анализа вызовов современности такого деления явно недостаточно. Я исхожу из другой предпосылки: по-настоящему глубокие политические преобразования были и остаются более фундаментальными и насквозь пересекают это разделение на правых и левых.
Подобно научным парадигмам Томаса Куна, существуют и политические парадигмы, сменяющие друг друга. Политическая парадигма — это общие рамки понимания того, как устроена политическая конфигурация общества; и в каждый момент времени такая парадигма, как правило, охватывает весь политический спектр от лево- до правоцентристского. Однажды установившись, она может сохраняться десятилетиями и восприниматься как единственная возможная. Изменение такой парадигмы — всегда серьезная глубинная трансформация, поскольку при этом меняются фундаментальные представления об общественном порядке и политических механизмах — как на левом, так и на правом фланге.
Если смотреть на развитие политики с более далекой дистанции, видно, что начиная с середины XX века существовали только две крупные политические парадигмы, а сейчас мы, по-видимому, находимся в эпицентре их очередной смены. Сначала действовала парадигма регулирования — от корпоративизма «Нового курса» Рузвельта до «сформированного общества» в Германии и «Великого общества» в США. Все это рухнуло в 1970-е годы, и на смену пришла парадигма либерального, открытого для глобализации динамичного развития — от неолиберализма до левого либерализма. Но что же будет теперь, когда и эта парадигма оказалась в кризисе? Появится ли новая, но иначе ориентированная парадигма регулирования? Это открытый вопрос.
Регулирование или динамизация
Итак, по-настоящему важно для понимания политического действия в последние десятилетия не деление на правых и левых, а различие между парадигмами регулирования и динамизации. Политика может реагировать на общественные изменения двумя способами. Если социальная динамика слишком активна, если обществу угрожает аномия и неравенство, возможно вмешательство в социальные процессы и попытка с помощью регулирующих мер установить более строгий порядок… Таков принцип парадигмы регулирования.
Если же общественное развитие, напротив, идет слишком медленно, политика может стимулировать социальную динамику, способствовать активизации рыночных сил, индивидуальных интересов и стремлений, технического прогресса. Такая политика проводится в парадигме динамизации.
Парадигмы возникают не произвольно, а в качестве реакции на соответствующие исторические кризисы: так, на кризисы динамизации ответом часто становится парадигма регулирования, а на кризис чрезмерной зарегулированности — парадигма динамизации. Сама по себе парадигма не может быть ни хорошей, ни плохой. Все зависит от того, когда ей удается совершить некий прорыв в мышлении.
Реакция на исторические кризисы
Все это четко просматривается в политической истории. В 1930-е годы западные индустриальные общества оказались в гигантском кризисе динамизации: крах биржи, массовая безработица, городская аномия и даже тенденции, ведущие к гражданским войнам. Тоталитарной реакцией, обещавшей быстро разобраться с подобной динамикой, стал национал-социализм. Но и в странах демократического спектра реагировали в духе парадигмы регулирования, направленной на обуздание капитализма и предотвращение культурной аномии: сюда относятся и «Новый курс» Рузвельта, и скандинавское социал-демократическое государство всеобщего благоденствия, так называемый «народный дом», и «сформированное общество» христианских демократов, и даже индикативное планирование при Де Голле как форма умеренной плановой экономики. Таким образом, существовали как прогрессивные, так и консервативные версии парадигмы регулирования, однако сама необходимость такого регулирования на национальном уровне была в равной степени очевидна и правым, и левым. Причем это регулирование касалось как социально-экономической сферы (кейнсианство, социальное государство и пр.), так и культуры («Народный дом», «сформированное общество»).
В 1970-х годах парадигму регулирования постиг фундаментальный кризис, как социально-экономический, так и социально-культурный. Национальное экономическое регулирование в индустриальных обществах достигло своих пределов, появились первые признаки постиндустриального общества и глобализации, в экономике началась стагнация, и после нефтяного кризиса 1973 года характерными явлениями стали инфляция, безработица и рост долгов. В то же время после протестного движения 1968 года очевидной стала неудовлетворенность многих — особенно образованной молодежи — конформизмом нивелированного общества среднего класса. Сочетание этих компонентов привело к всеобъемлющему кризису чрезмерного регулирования.
В качестве политической реакции на этот кризис начиная с 1980-х годов зародилась новая парадигма динамизации. Во главу угла было поставлено дерегулирование экономики и социокультурной сферы, повсюду доминировал новый либерализм. В парадигме динамизации тоже есть правые и левые элементы, а кроме того, социально-экономический и социокультурный аспекты. Безусловно, в центре социально-экономической политики стоит столь часто упоминаемый неолиберализм: на смену национальному «управляющему» государству приходит конкурентное государство, участвующее в соревновании на глобальном рынке; в арсенале его инструментов — содействие экономической глобализации и демонтаж государства всеобщего благосостояния. Другое крыло парадигмы либеральной динамизации представляет левый либерализм: демонтаж гендерных иерархий, укрепление прав личности, содействие миграции и культурному разнообразию — так государство поощряет отход от конформизма и однородности нивелированного общества среднего класса.
Великое общество 2.0
Очевидно, что после 2010 года эта парадигма динамизации также достигла своих пределов. В социально-экономическом развитии на первый план вышли темные стороны нерегулируемых рынков, неолиберальное пренебрежение государственной инфраструктурой и обострение социального неравенства между сверхбогатым классом и прекариатом. На социокультурном уровне нерегулируемые стремления и претензии отдельных лиц и групп сделали гражданский консенсус общества чрезвычайно хрупким, и не ограниченная никакими правилами коммуникация в интернете здесь лишь верхушка айсберга. В сфере экологии же постоянно растущее глобальное потребление, не учитывающее издержки для природы, уже привело к изменению климата. Налицо признаки кризиса такой чрезмерной динамизации. Важно при этом, что кризис многоуровневый: в то время как левые критикуют издержки неолиберализма, коммунитаристы следят за кризисом культуры, а экологи привлекают внимание к проблемам климата, необходимо понимать, что все эти три аспекта структурно взаимосвязаны.
Сравнительный исторический анализ также показывает, что политическая реакция на кризис чрезмерной динамизации не может ограничиваться одним только креном вправо или влево. Да и как это возможно? О левой или правой политике в какой именно сфере могла бы идти речь? Ответом на кризис должно быть, скорее, перераспределение равновесия между упорядочиванием и динамикой, то есть смена парадигмы в сторону новой парадигмы регулирования.
Однако эта новая парадигма не может заключаться в простом копировании корпоративизма 1950-1960-х годов, поскольку социальные условия уже изменились. За либерализмом динамизации последних десятилетий мог бы — и даже должен бы — последовать некий «укорененный либерализм». Кажется, что нужна политика, которая в целях нового регулирования сможет заключить безудержную динамику — рынков, индивидуальных желаний и идентичностей, неэкологичного потребления — в определенные социальные, культурные, государственные и общественные рамки. Своего рода «Великое общество 2.0». Для формирования убедительной и эффективной парадигмы такой регулятивный либерализм обязан соединять в себе оба элемента. Он должен реагировать одновременно на экономический, культурный и экологический кризис чрезмерной динамизации: поддержание государственной инфраструктуры и снижение социального неравенства, защита основных культурных ценностей и открытость культуры, экологичное регулирование энергетики и развитие транспорта — не должны противопоставляться друг другу.
Деление на левых и правых становится второстепенным
С другой стороны, в отличие от корпоративизма послевоенного времени, социальная реальность начала XXI века — это глобальная экономика, постиндустриальное общество и плюралистическая многонациональная культура. Поэтому возврат к фантазиям о национальном принципе управления невозможен. Гораздо важнее задуматься о включении достижений, сделанных в рамках парадигмы динамизации, — таких как признание гетерогенности и индивидуальности, постижение глобальной структуры экономики — в новый укорененный либерализм. Именно это отличает его от популизма (прежде всего правого), который не случайно сформировался сейчас, будучи такой же реакцией на кризис чрезмерной динамизации: в популизме государственное регулирование оборачивается фантазиями о нелиберальной закрытости общества, а укорененный либерализм ставит задачу регулирования не вопреки динамике экономик и культур позднего модерна, а внутри нее.
Как именно должна быть оформлена эта либеральная парадигма регулирования — вот в этом вопросе уже действительно будут играть роль различия между левым/прогрессивным и правым/консервативным. Прогрессивный либерализм включения будет развивать государственную инфраструктуру (жилье, образование и пр.) для всех, сделает ставку на универсальные культурные ценности и на более ответственное обращение с проблемой изменения климата, чем это может себе позволить «сострадательный консерватизм».
В любом случае, последствия смены политических парадигм в первой трети XXI века окажутся столь серьезными, что деление на левых и правых отойдет на второй план.