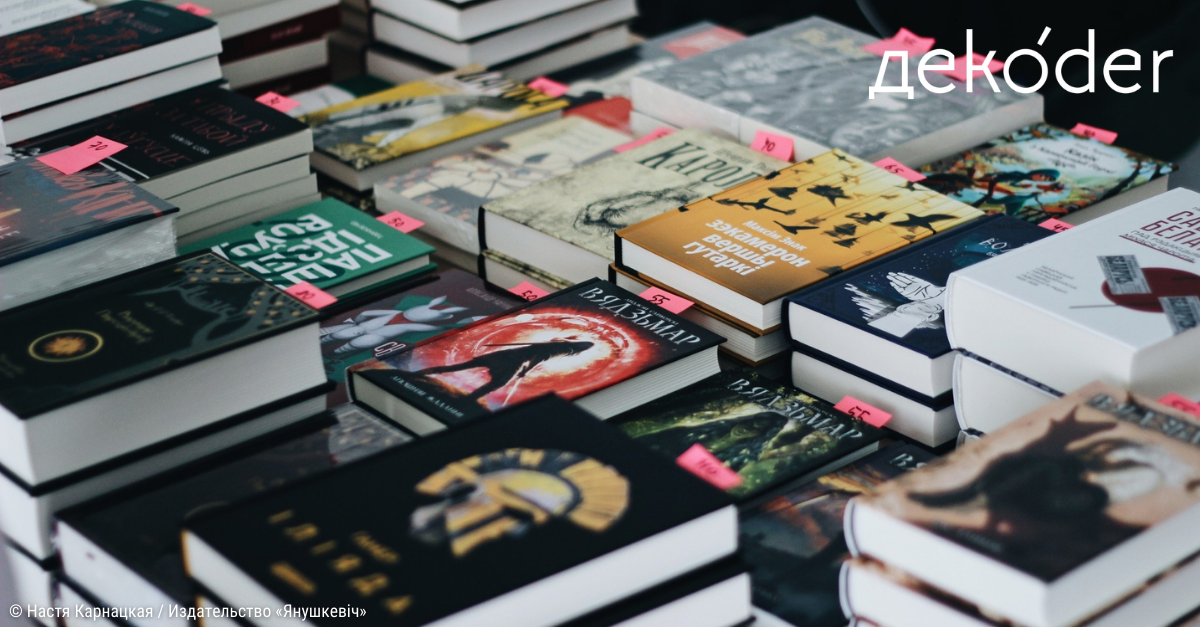В начале февраля социологический центр Forsа опубликовал результаты опроса, из которых следует, что перед нынешними выборами «Альтернатива для Германии» уступила в популярности «Зеленым» и «Левой». Но пока это лишь одно исследование, а прошлогодние выборы в Германии показали совсем другое. Сначала на европейских выборах в июне, а потом во всех восточногерманских землях, где осенью избирали ландтаги, АдГ получила среди молодежи наибольшую поддержку — на востоке она превысила 30%. Исследователи обращают внимание также на то, что молодые мужчины голосуют за крайне правых куда охотнее, чем женщины. И на то, что чем моложе избиратели, тем поддержка «Альтернативы» выше. Возможно, в этом есть и элемент протестного голосования.
Пожалуй, самое распространенное объяснение подъема АдГ в молодежной среде сводится к тому, что эта партия успешнее других политических сил внедрилась в популярные среди молодых людей социальные сети — и прежде всего, в тикток. Но некоторые авторы считают, что дело не в медиапотреблении как таковом, а в социальных проблемах, с которыми столкнулась немецкая молодежь. Одно из таких объяснений вы можете найти в статье из журнала Blätter, которую перевел дekoder.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить ничего из главных новостей и самых важных дискуссий, идущих в Германии и Европе. Это по-прежнему безопасно для всех, включая граждан России и Беларуси.
Долгое время считалось, что большинство подростков и молодых людей в Германии придерживаются, скорее, левых взглядов или, в крайнем случае, аполитичны. И когда в апреле прошлого года были опубликованы результаты обновляемого исследования «Молодежь в Германии–2024», в СМИ поднялся большой шум, поскольку из них следовало, что АдГ — самая популярная партия в возрастной группе 14-29 лет и пользуется поддержкой 22% людей, входящих в нее1. Для сравнения: в предыдущей версии, опубликованной за два года до этого, уровень популярности АдГ среди молодежи составил 9%. Ни пожилые, ни молодые избиратели прежде не голосовали на выборах за «Альтернативу» — ее проценты обеспечивали люди среднего возраста. И хотя упомянутое исследование подвергалось критике из-за своей методики, выборы в Европарламент и опросы последних месяцев подтверждают ключевые его выводы. По данным центра Infratest Dimap, АдГ всего на один процентный пункт отстала от ХДС/ХСС, заняв второе место по популярности в возрастной группе 16-24 лет на европейских выборах в июне прошлого года2. А по данным исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen, АдГ даже сравнялась с ХДС/ХСС по этому показателю3. АдГ также показала хорошие результаты среди молодых избирателей на земельных выборах в Гессене и Баварии осенью 2023 года. В Баварии она получила 16% голосов в возрастной группе 18-24 лет, а в Гессене целых 18%4. Эта тенденция еще ярче проявилась в ходе симуляции общенациональных выборов с участием молодых людей в возрасте до 18 лет («U18-Wahl»). В этой возрастной группе АдГ удвоила свой результат за пять лет5, что свидетельствует о том, что у молодежи ее популярность растет непропорционально стремительно.
Еще пару лет назад исследования молодежи свидетельствовали о широкой поддержке «Зеленых» и свободных демократов
Усиление АдГ среди молодых избирателей — симптоматичное свидетельство кризиса политического порядка, который мы сегодня наблюдаем. Коротко говоря: экспортно ориентированная экономическая модель Германии близка к пределам своих возможностей. Действующие политические институты и идеологические установки теряют силу, в то время как новые еще не сформировались. Это время фундаментальных изменений — подобного рода системные кризисы власти могут растянуться на годы, а иногда и на десятилетия. Для описания сложившейся ситуации хорошо подходит термин «кризис гегемонии», придуманный Антонио Грамши6: по сути, речь идет о том, что старая постполитическая гегемония эпохи Меркель пошатнулась не только в политическом, но и в экономическом плане. Задача пришедшей ей на смену коалиции под руководством Олафа Шольца состояла в том, чтобы создать новый политический проект, нагнав темп с помощью запоздалой экологической модернизации немецкой экспортной модели. Именно эту цель преследовал союз СДПГ, «Зеленых» и СвДП, заявляя о себе как о «коалиции прогресса». Однако этот проект явно зашел в тупик.
Заблокированная «зеленая модернизация»
Именно преобразования, которые действительно необходимы, прямо сейчас заблокированы — изначально (и преимущественно) из-за кризиса предложения вследствие войны в Украине. А усугубляется он, прежде всего, нежеланием отказаться от «долгового тормоза». В результате у зелено-либеральной модернизации все более ограниченные возможности по решению социальных проблем, что приводит к постепенной утрате политической целостности этого проекта. И «светофорной» коалиции не удалось предложить новую модель, которая пришла бы на смену постполитической гегемонии времен Меркель, истончающейся на глазах. Оптимизм по поводу будущего, который коалиция излучала в самом начале, растаял в воздухе, так и не найдя форму для своей реализации. Одно из конкретных проявлений кризиса гегемонии — то, что «по результатам голосований […] не складывается явного большинства, необходимого для формирования правительства»7. Так [было] по итогам земельных выборов на востоке Германии; это, вероятно, повторится и после выборов в Бундестаг. Говоря упрощенно и следуя мысли социолога Лии Бекер, на сегодняшний день можно выделить три конкурирующих политических проекта по преодолению кризиса, которые различаются подходами к тому, как решать проблемы немецкой экспортной модели. Первые два — это варианты модернизации: зелено-либеральный и авторитарно-неолиберальный, представленный в настоящее время, в основном, партией ХДС, в частности Фридрихом Мерцем и Карстеном Линнеманном. И есть третий, сторонники которого несколько дистанцируются от остальных, принципиально отвергая идею обновления существующей модели, — и в право-авторитарном духе отстаивают ископаемый образ жизни в рамках суверенного национального государства8.
Каких-то два года назад казалось очевидным, на стороне какого из этих проектов находятся симпатии молодых людей. Тогдашние результаты исследования молодежи свидетельствовали о широкой поддержке «Зеленых» и СвДП — эти партии убеждали почти половину опрошенных молодых людей9. «Зеленые» при этом — самые яркие сторонники экомодернизма, который должен был прийти на смену старой постполитической гегемонии. И долгое время поддержка этой зелено-модернистской концепции будущего со стороны молодежи была явно сильнее, чем среди населения Германии в целом. Однако с момента прихода «светофорной» коалиции к власти популярность такого взгляда на мир стала снижаться: всего за два года, по данным опросов, уровень поддержки «Зеленых» в рядах молодых избирателей снизился на девять процентных пунктов, а СвДП — сразу на одиннадцать. В то же время политическое представительство авторитарно-неолиберальной модернизации и право-авторитарная реакция, нашедшая свое оформление в партии АдГ, набирают силу. Как же до этого дошло?
Либеральные женщины, консервативные мужчины
Говоря об успехе АдГ среди молодежи, нельзя не обратить внимание на то, что за этой тенденцией скрывается определенная гендерная динамика. «Альтернатива» и без того гораздо популярнее среди мужчин, чем среди женщин, а в молодежной среде это видно еще более отчетливо: если молодые женщины в последние годы все чаще примыкают, скорее, к либеральному лагерю, то молодые мужчины в Германии по-прежнему значительно более консервативны. То, что политические предпочтения молодежи обнаруживают такую поляризацию в зависимости от гендерной принадлежности, свидетельствует о том, что мужчины и женщины из этой возрастной когорты вновь переживают разный опыт, а вместе с тем различается и восприятие ими социально-экономических возможностей. За последние несколько десятилетий молодые женщины значительно обошли своих сверстников-мужчин по уровню образования, причем в самых разных областях. Уже больше сорока лет девушки сдают экзамены на аттестат зрелости чаще, чем юноши, — и в среднем они получают более высокие оценки по всем предметам10. В то же время молодые мужчины, особенно без высшего образования, все чаще сталкиваются со значительными трудностями на рынке труда. Традиционные «мужские профессии» в сфере промышленности и ручного труда теряют былую значимость, тогда как сфера услуг, где широко представлены женщины, находится на подъеме. Эти изменения могут вызывать у молодых мужчин чувство неуверенности и ощущение потери статуса. Это одна составляющая перемен.
Тем, кто не может найти жилье, поскольку арендная плата продолжает расти, вполне логичной может показаться связь с тем, что в стране живет все больше вновь прибывших
Другая причина успеха АдГ среди молодежи, на которую также активно ссылаются правые, связана с увеличением доли иностранцев в населении Германии. Если вкратце, правая аргументация звучит так: иностранцев вокруг становится все больше и больше, а «Альтернатива» набирает очки только благодаря тому, что много лет занимает антимигрантскую позицию. В Германии и вправду проживает больше граждан других стран, чем раньше. Так, с 1990 года до середины 2010-х доля иностранцев в общей численности населения оставалась стабильной и составляла около 8%. С 2014 года этот показатель постоянно растет и в настоящее время составляет 14,6%11. Цифры еще выше, если добавить к ним немцев с миграционным прошлым: их доля среди молодежи достигает 30%12. Во времена растущего дефицита ресурсов (например, нехватки жилья в крупных городах) эта тенденция может быть использована в политических целях. Тем, кто не может найти жилье, поскольку арендная плата продолжает расти, а государственное жилищное строительство — вопреки обещаниям — практически застопорилось, вполне логичной может показаться связь с тем, что они видят: в стране живет все больше людей, часть из которых выглядит как вновь прибывшие.
Результаты упомянутого выше многолетнего исследования молодежи свидетельствуют о том, что именно это сегодня и происходит. Пусть «растущее число беженцев» и занимает лишь десятую строчку в рейтинге проблем, волнующих молодых людей, число тех, кто считает эту тенденцию проблематичной, за прошедшие два года удвоилось. Настолько стремительный рост обеспокоенности зафиксирован только в отношении этой темы. И молодые люди здесь не одиноки. Население в целом выказывает все меньше готовности принимать новых беженцев. В 2021 году 36% немцев говорили, что Германия не может принимать больше беженцев, что предел ее возможностей достигнут. Сейчас этого мнения придерживаются уже 60%13.
У молодых людей продолжает накапливаться кризисный опыт
Правый авторитарный блок смешивает общественные дискуссии по вопросам миграции с социальной политикой и предлагает иллюзорное решение общественно-экономических проблем регрессивными националистическими методами. В частности, АдГ уже более десяти лет трактует социально-экономические проблемы на свой лад, сводя их к вопросу национальной идентичности. И со временем они нашли отклик у значительной части молодежи. Однако это, вероятно, в меньшей степени связано с увеличением доли мигрантов как таковым, а в большей — с параллельно происходящей борьбой за распределение благ.
Это подводит нас, пожалуй, к самому важному аспекту: у молодых людей продолжает накапливаться кризисный опыт. Подростковый возраст сам по себе кризисная фаза, а сейчас эмоциональные переживания и трудности социализации накладываются на кризис межклассовых и межгендерных отношений14. Взаимодействие поколений всегда включало в себя конфликт между более старшими и более молодыми людьми: одни пытаются сохранить существующее положение дел, а другие хотят от него освободиться и создать что-то новое. Однако эти конфликты могут протекать в более мягкой или более острой форме, на них сильно влияет уровень общественного развития. Поэтому возникает вопрос, какие кризисы особенно значимы с точки зрения молодежи.
На смену всеобщей солидарности приходит парадигма конкурентного мышления
Согласно исследованию SINUS, опубликованному в июне, подростки 14-17 лет, отвечая на вопрос о кризисах, чаще всего упоминают изменение климата, социальную изоляцию/расизм/дискриминацию, инфляцию и войну15. Кроме того, кризисы прошлых лет оставили глубокий след в коллективном сознании молодежи. Например, опыт, полученный за время пандемии коронавируса, вероятно, не только отрицательно сказался на психике, но и сильно повлиял на восприятие кризисов в целом. Многим молодым людям пришлось справляться с такими важными жизненными вехами, как окончание школы или поступление в университет, при неблагоприятных внешних обстоятельствах. Во время пандемии молодые люди ощущали себя (сильнее, чем кто бы то ни было) во власти других людей и чувствовали, что практически не могут повлиять на собственное положение. Такого рода потеря контроля может способствовать одобрению авторитарных решений16.
Этнизация социального вопроса: что предлагают правые
Последствия климатических изменений молодые люди тоже воспринимают не как абстрактную угрозу, а как конкретную реальность, которая напрямую влияет на их будущие перспективы. Эта тема сильно беспокоит подростков 14-17 лет, опрошенных в ходе исследования SINUS: «С точки зрения респондентов, человечество с широко открытыми глазами движется к катастрофе, но никто ничего не предпринимает для ее предотвращения. Реакция молодых людей на сложившуюся ситуацию — страх, бессилие и чувство безысходности»17.
«Светофорной» коалиции не удалось претворить в жизнь план зелено-либеральных модернизаций, который предполагал, что защита климата должна быть социально приемлемой. Молодежь особенно остро ощущает неспособность политиков решить проблемы, что ведет к стремительному политическому отчуждению. Ничего похожего на экологическую модернизацию с экономическим подъемом молодые люди не наблюдают. Напротив, экономическое положение медленно, но верно ухудшается. Подростки и «молодые взрослые» это, безусловно, чувствуют. Опрос за опросом фиксирует ярко выраженный страх перед инфляцией. По данным обновляемого исследования немецкой молодежи, эта проблема беспокоит молодых людей сильнее всего. На втором месте — страх остаться без доступного жилья. Возможно, молодые люди, склоняющиеся к правым взглядам и одновременно не верящие в экономические улучшения, переживают сегодня то же самое, что и рабочие правых воззрений. Команде исследователей во главе с Клаусом Дерре удалось установить, что рабочими, склоняющимися вправо, в борьбе за сохранение статуса и улучшение собственного положения движет ресентимент. На смену всеобщей солидарности приходит парадигма конкурентного мышления. И потому рабочие правых взглядов подчеркивают собственную ценность тем, что обесценивают других по этническому признаку18. Так складывается довольно устойчивая, хоть и не слишком многообещающая с экономической точки зрения, позиция.
Молодые люди переживают то, что можно было бы назвать страхом потери второго порядка — страх потерять обещанное будущее
Похоже, что и среди «молодых взрослых» существует определенный спрос на этнизацию социального вопроса. Спрос, в ответ на который за прошедшие годы отдельные представители АдГ и близкие к ней круги сформировали предложение в виде концепций вроде «солидарного патриотизма». Бьорн Хёке и Максимилиан Кра, положительно относящиеся к этой концепции, отвечают на социальный вопрос справа, переосмысливая социально-экономические конфликты между верхами и низами как конфликт между теми, кто был «внутри», и теми, кто пришел «извне».
В этой связи в последние годы исследователи особенно активно обсуждали вопрос о страхе перед социальной деградацией, бытующем среди представителей среднего класса. Еще в 2010 году Вильгельм Хайтмайер говорил об «ожесточении буржуазии», в 2014-м Ева Мария Гросс и Андреас Хёверманн использовали понятие «рыночного экстремизма», а в 2016 году Оливер Нахтвай поставил диагноз немецкому обществу, назвав его «обществом упадка». Как объясняет Филипп Манов, речь не обязательно о тех, кто уже что-то потерял, — скорее, о тех, кому есть что терять. Другими словами, люди, которые боятся что-то потерять, с большей вероятностью разделяют правые взгляды.
Но у молодых людей, как правило, жизненная ситуация такова, что терять им практически нечего. Их карьера только начинается, и в плане статуса и признания им еще только предстоит многое приобрести и многого добиться. Поэтому, вероятно, сам по себе страх потери затрагивает их в меньшей степени. Но есть еще кое-что, что можно было бы назвать страхом потери второго порядка: страх потерять обещанное будущее. Иными словами, одни беспокоятся о своем положении в обществе, а другим только предстоит за него побороться. Неудивительно, что, когда эта борьба ожесточается, все больше молодых людей засучивают рукава, чтобы локтями расталкивать конкурентов в предстоящих битвах за блага.
Молодежь — одна из последних групп населения (остались еще разве что пенсионеры), которая начинает активно откликаться на предложение «Альтернативы», направленное против гегемонии. Историческое значение АдГ заключается в том, что она стала первой партией, которой удалось объединить значительную часть сторонников правых взглядов в ФРГ. Этот успех — не только признак текущих политических изменений, но и свидетельство устойчивости праворадикального проекта.
Учитывая кризис зелено-либерального модернизационного проекта, сомнительно, что он может стать источником успешных мер сопротивления — надежды на это мало. Кроме того, в стране нет четкого политического центра, а левая общественность слабо организована. Пока признаков того, что левым в Германии удастся сформировать политическую силу столь же успешную, как АдГ, мало. Не поддаваясь «головокружению от надежд»19, которым страдают многие левые, можно обратить внимание: недавние парламентские выборы во Франции продемонстрировали, что формирование новой политической силы слева в принципе возможно. Избирательному блоку левых политических партий «Новый народный фронт» удалось привлечь на свою сторону почти половину голосов 18-24-летних избирателей — с отрывом в 15 процентных пунктов от ультраправых. Тот факт, что партия Эммануэля Макрона, столь популярного среди представителей немецкой политической элиты, набрала лишь 9% голосов молодых избирателей, лишний раз демонстрирует, в какой масштабный кризис гегемонии погрузился политический центр в молодежной среде. В будущем этот кризис, скорее всего, только усугубится.
1. Schnetzer S. et al. Trendstudie Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber, Kempten, 2024. ↑
2. Europawahl in Deutschland // tagesschau.de. 09.06.2024. URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2024-06-09-EP-DE/ (доступ 14.02.2025) ↑
3. Forschungsgruppe Wahlen. Wahlanalyse zur Europawahl 2024. Schwache Ampel – Grüne Hauptverlierer // zdf.de. 10.06.2024 (доступ 14.02.2025). ↑
4. Süß S. AfD-Schub und Grün-Frust. So ticken junge Wähler in Hessen // hessenschau.de. 09.10.2023 (доступ 14.02.2025). ↑
5. См. результаты U18-Wahlen 2024 на сайте wahlen.u18.org. ↑
6. Gramsci A. Gefängnishefte. Bd. 2. Hamburg, 1991, S. 1578. ↑
7. Deppe F. Überlegungen zum Charakter der politischen Krise // „Z“. 117/2019. S. 15-35. (доступ 14.02.2025). ↑
8. Becker L. Blockierte Transformation und rechte Offensive // zeitschrift-luxemburg.de, 12/2023. (доступ 14.02.2025). ↑
9. Schnetzer S. et al. Trendstudie Jugend in Deutschland. Die Wohlstandsjahre sind vorbei: Psyche, Finanzen, Verzicht, Kempten 2022. ↑
10. См.: Edelstein B. Welcher Anteil der Jungen und Mädchen erlangt das Abitur? (1950-2018) // bpb.de, 09.05.2023 (доступ 14.02.2025) и Voyer D., Voyer S. Gender differences in scholastic achievement: A meta-analysis // Psychological Bulletin, 4/2014, S. 1174–1204. (доступ 14.02.2025). ↑
11. Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in Deutschland von 1991 bis 2023 // de.statista.com. 10.06.2024. (доступ 14.02.2025). ↑
12. Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Alter // bpb.de, 01.01.2022 (доступ 14.02.2025). ↑
13. Willkommenskultur in Krisenzeiten // bertelsmann-stiftung.de, 05.03.2024. (доступ 14.02.2025). ↑
14. Frühauf M. Adolescence in times of social-ecological crisis. Perspectives for social pedagogical analysis and research // Social Work & Society“, 21/2023. (доступ 14.02.2025). ↑
15. Clambach M. et al., Wie ticken Jugendliche? SINUS-Jugendstudie 2024. Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Bonn, 2024. S. 156. (доступ 14.02.2025). ↑
16. См.: Ravens-Sieberer U. et al. Die COVID-19-Pandemie – Wie hat sie die Kinderpsyche beeinflusst? // Monatsschrift Kinderheilkunde, 171/2023, S. 608-614 (доступ 14.02.2025); Andresen S et al., Verpasst? Verschoben? Verunsichert? Junge Menschen gestalten ihre Jugend in der Pandemie. Hildesheim 2023; Wilhelm Heitmeyer, Autoritäre Versuchungen. Signaturen der Bedrohung 1, Berlin 2018. URL: https://d-nb.info/1252459696/34 (доступ 14.02.2025). ↑
17. Clambach et al. Wie ticken Jugendliche? SINUS-Jugendstudie 2024. a.a.O., S. 158. ↑
18. Dörre K. et al. Arbeiterbewegung von rechts? Motive und Grenzen einer imaginären Revolte // Berliner Journal für Soziologie, 28/2018, S. 55–89. (доступ 14.02.2025). ↑
19. Tügel N. Neue Volksfront: Bitte kein neues Hoffnungs-Hopping à la Syriza und Bernie Sanders // freitag.de, 12.07.2024 (доступ 14.02.2025). ↑
Читайте также
Что пишут: о поляризации и расколе немецкого общества
А если «Альтернатива для Германии» и правда придет к власти?
Да, детей и подростков пора защищать так же, как любое другое меньшинство
Что пишут: о немецком кризисе. Далеко не только правительственном