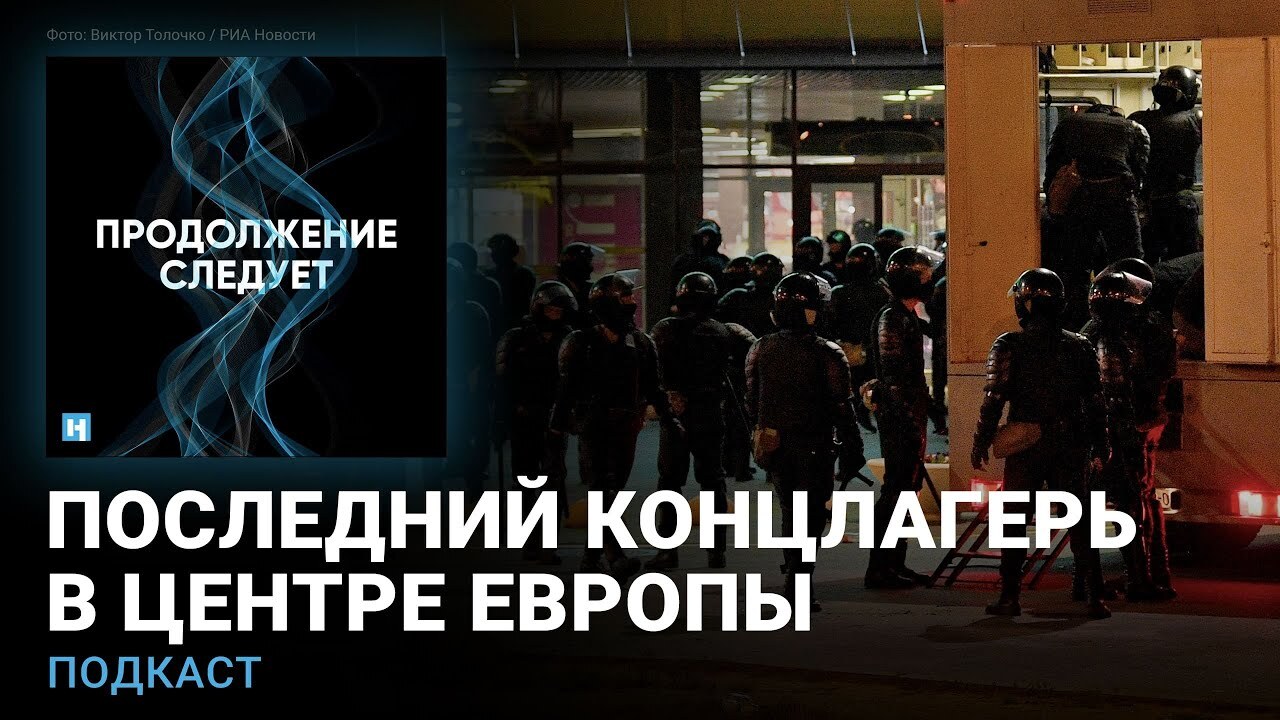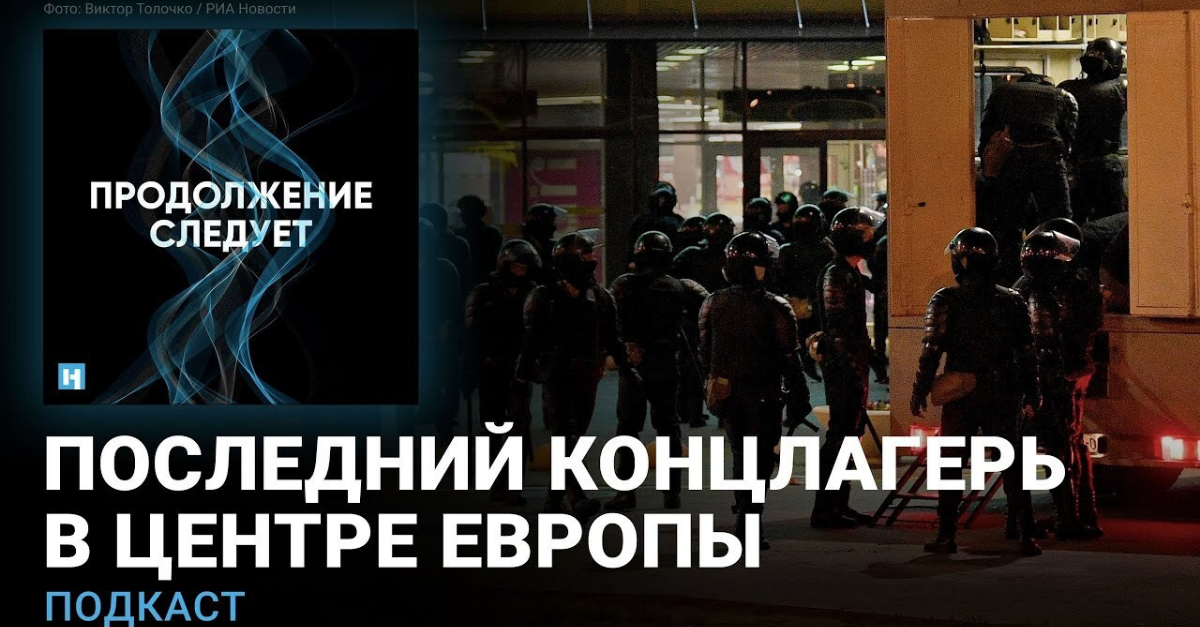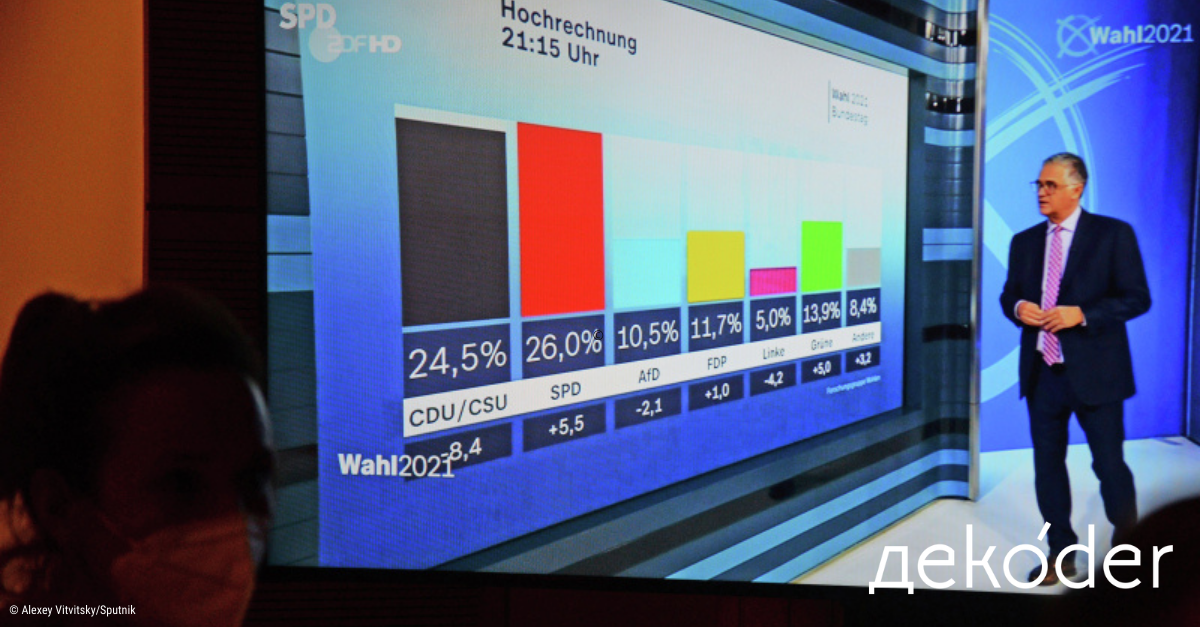Вирусолог Кристиан Дростен был одним из авторов немецкой стратегии борьбы с коронавирусом, которая, по крайней мере на первом этапе пандемии, позволила избежать гибели многих людей. В России имя Дростена широко известно, в том числе благодаря тому, что «декодер» перевел его интервью газете Zeit, в котором он четко обозначил: жить в чрезвычайной ситуации придется год, а то и больше. В начале лета 2021 года, когда вариант дельта уже распространялся по миру, журналисты швейцарского издания Republik снова поговорили с Дростеном — на этот раз о происхождении коронавируса, обсуждение которого в какой-то момент с конспирологических интернет-форумов перекочевало в кабинеты самых влиятельных политиков мира. Дростен уверен: вероятность неудачного эксперимента или чьей-то злой воли крайне мала. «декодер» публикует интервью с ним целиком.
Прошло уже больше года с начала пандемии, и конец уже виден. По крайней мере в Европе, где все больше людей вакцинируются или приобретают иммунитет, заболеваемость падает. Что об этой пандемии думает человек, который сыграл решающую роль в открытии вируса атипичной пневмонии в 2003 году?
Мы едем в гости к Кристиану Дростену, профессору берлинской клиники Шарите, который уже 20 лет изучает коронавирусы и приобрел большую известность в последние полтора года благодаря своему подкасту «Новости о коронавирусе» на канале NDR. Дростен фактически изобрел первый тест на ковид за одну ночь. Что он думает о происхождении коронавируса, который вызвал пандемию?
В день интервью президент США Джо Байден созвал комиссию, которая будет изучать версию об искусственном происхождении коронавируса из китайской лаборатории. Что об этом думает Дростен?
«У вас назначено?» — спрашивает нас охранник на входе. Мы начинаем вытаскивать все наши документы: пропуск на территорию клиники Шарите, ПЦР-тесты и официальное подтверждение того, что нам не требуется карантин, — но нас сразу же пропускают внутрь.
Дорожка ведет к небольшому домику из красного кирпича, окруженному многочисленными камерами, рядом с главной белой башней Шарите. Прямо перед входом стоит еще один охранник, который интересуется, что мы тут делаем. Мы объясняем, и он говорит, указывая на одну из дверей: «На второй этаж». На двери висит большая табличка: «Опасно! Риск заражения!»
Мы заходим в кабинет, из-за стола поднимается профессор Дростен и говорит, что маски можно снять: он уже дважды привит.
Все указывало на то, что источник вируса — животное, которое постоянно контактирует с человеком, скорее всего, сельскохозяйственное.
Republik: Господин Дростен, вы изучаете коронавирусы уже 17 лет, хотя большинство людей узнали об их существовании только в январе 2020 года. Почему именно коронавирусы?
Кристиан Дростен: В 2003 году один сингапурский врач заразился неизвестным вирусом, полетел в Нью-Йорк и уже там ощутил первые симптомы. Было известно, что в Сингапуре он контактировал с тяжелобольным пациентом. На обратном пути его самолет сел для дозаправки во Франкфурте, врача сняли с рейса и отправили в изолятор. Я тогда работал в Гамбургском институте тропической медицины, который занимается завозными инфекционными заболеваниями. Институт как раз разработал уникальную методику лабораторной диагностики ранее неизвестных вирусов, и вот так для меня и началась эта детективная история. К тому моменту эпидемиологи уже понимали, что наблюдаемая болезнь — новая, заразная и вызывает воспаление легких, но никто не знал, какой вирус является возбудителем.
И что вы тогда сделали?
Во Франкфурт я приехал на кандидатский экзамен и гостил там у коллег. Они как раз вырастили первую клеточную культуру и дали мне с собой несколько проб. Я проанализировал их по новой методике и обнаружил геном коронавируса, который до этого нигде не встречался.
Так вы и открыли атипичную пневмонию?
После этого мне с франкфуртскими коллегами оставалось сделать всего несколько шагов, чтобы показать, что именно этот вирус стал причиной болезни врача из Сингапура. Одновременно Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Атланте получил еще одну пробу, взятую у второго пациента — врача ВОЗ, который скончался от этой болезни в бангкокской реанимации. Совместное изучение показало, что эти пациенты, никогда не встречавшиеся друг с другом, имели косвенную эпидемиологическую связь с Китаем, где были зарегистрированы вспышки новой болезни: оба заразились одним и тем же вирусом, и течение болезни тоже было одинаковым.
Сколько длилась эта детективная работа?
Основные события уместились в одну неделю.
В 2012 году, когда произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома MERS, который вызывает тяжелое инфекционное заболевание, часто с летальным исходом, вы тоже сыграли важную роль.
Тогда стало понятно, что в ближневосточных медицинских учреждениях постоянно возникает одно и то же заболевание, которое передается из одной больницы в другую. Факты были таковы: смертность от вируса высокая, каждый заболевший заражал еще одного человека, тот — еще одного, но вскоре вирус угасал. Получается, что его способность передаваться от человека к человеку была нестабильной, однако вспышки MERS продолжались. Откуда же он появлялся? Все указывало на то, что источник вируса — животное, которое постоянно контактирует с человеком, скорее всего, сельскохозяйственное.
Воткнуть в верблюда шприц — это для многих все равно что посадить царапину на новый «Мерседес»
А как понять, какое именно?
Ученые просто начали перебирать все виды таких животных, это не очень долго.
И в итоге загнали вирус в угол?
Да, несколько лабораторий объединились и протестировали все имеющиеся пробы сельскохозяйственных животных с Ближнего Востока на антитела. Сразу стало ясно, что все дело в верблюдах. Вирус часто заносят в больницы пожилые люди, у которых есть верблюды. Например, в Саудовской Аравии разведение верблюдов — это, грубо говоря, такое мужское хобби.
И что было дальше? Пристрелили всех верблюдов?
Лучше всего было бы взять и полностью уничтожить вирус в источнике. Верблюдов ведь можно вакцинировать — они не боятся человека, бери и прививай. Проблема в том, что хороший верблюд иногда стоит огромных денег, и владельцы зачастую не хотят прививать своих животных: воткнуть в верблюда шприц — это для многих все равно что посадить царапину на новый «Мерседес», примерно те же ощущения.
Вы сказали, что этот вирус может два-три-четыре раза передаться от человека к человеку. Почему MERS на этом останавливается, а другие коронавирусы — нет?
Нужно сразу сказать: респираторный вирус типа MERS, который начал передаваться от человека к человеку, — это, конечно, куда ближе к пандемии, чем другие зоонозные вирусы, например бешенство. Бешенство действительно передается человеку от животных, но случаи передачи от человека к человеку очень редки. Главное, что вирусы всегда адаптируются к своему хозяину: в случае с MERS — к верблюду. Если вирус хочет научиться лучше передаваться от человека к человеку, то эта адаптация (то есть соответствующие мутации) должна произойти в человеке. Сидя в верблюде, этого не сделать. Для начала необходимы два-три-четыре поколения вируса, передающихся от человека к человеку. И даже тогда пандемии начаться не так просто.
До недавнего времени я наивно полагал, что популяции промежуточных хозяев вируса в Китае так или иначе контролируются
Почему?
В самом начале пандемии вирус не очень заразен: один заболевший обычно заражает одного, а не пять и не десять человек, то есть количество экземпляров вируса в природе ограничено, как и количество мутаций. Все мутации имеют случайный характер, а случайность, как доказывает эволюция, очень редко приводит к совершенствованию и без того работающего организма. Получается, что вирус, попав в человека, стоит на пороге смерти, если случай не поможет ему быстро породить правильные мутации.
Вы говорили, что пандемии начаться не так просто. Наверное, именно поэтому появление SARS CoV-2 стало для вас неожиданностью?
Каждый, кто работает с вирусами, передающимися от животных к человеку, понимает, насколько реальна опасность пандемии. Мы много лет занимались вирусом MERS и видели, что он начал к нам подбираться. Нынешний коронавирус меня удивил, потому что… Ну, в общем, потому что я до недавнего времени наивно полагал, что популяции промежуточных хозяев вируса (для SARS-1 это были енотовидные собаки и виверровые) в Китае так или иначе контролируются.
Что вы имеете в виду под контролем популяции?
Ну, мы не исходим из того, что летучие мыши напрямую передают эти вирусы человеку. Я сам работал с летучими мышами и изучал похожие на SARS коронавирусы. Они встречаются и в европейских популяциях летучих мышей, но исследования показывают, что их не так просто передать от мыши к человеку. То есть возникает вопрос: какое еще животное участвовало в передаче вируса? Часто переносчиками становятся сельскохозяйственные животные, которые содержатся в стесненных условиях, идеально подходящих для развития вируса. С ними человек взаимодействует уже не так, как с дикими животными типа летучих мышей. Возьмем пушных зверей: с енотовидных собак и виверровых шкуру снимают живьем, они ревут в предсмертной агонии, и в воздух попадают аэрозоли. Вдохнув их, человек может заразиться вирусом. Такие животные стали источником SARS-1, это научно доказанный факт. Для меня это был пройденный этап: я думал, что с животными так уже никто не обращается, поэтому и вирус не вернется. Но SARS вернулся.
Как?
Есть несколько гипотез, о них сейчас снова заговорили все СМИ.
Есть такая: вирус мог вырваться из лаборатории. В пользу этой версии говорит то, что SARS-2 очень заразен для человека, и до сих пор непонятно, как вирус сумел развить такое свойство естественным путем, тогда как ход развития MERS и SARS вроде бы ясен. И еще есть версия о том, что вирус появился на китайских зверофермах и мутировал. Господин Дростен, откуда же взялся этот вирус?
Я скорее смотрю в сторону звероводческих ферм. Гипотеза о лабораторном происхождении вируса, конечно, существует. Чисто технически, если просто посмотреть на геном, это вполне возможно. При этом я хорошо знаком с методиками, которые позволяют модифицировать вирус подобным образом, и если допустить, что SARS-2 действительно был разработан искусственно, то я бы сказал, что это сделано чересчур сложно. Можно было куда проще.
Что вы имеете в виду?
Смотрите, на самом деле гипотезы о лабораторном происхождении две: злой умысел (то есть кто-то намеренно сконструировал вирус) и случайность (то есть в ходе обычного научного эксперимента что-то пошло не так). Если про злой умысел, то честно — по этому вопросу лучше в спецслужбы обращаться, мне как ученому тут сложно что-то сказать.
А версия с несчастным случаем в ходе эксперимента?
Предположим, что кто-то целенаправленно хотел изменить какие-то свойства вируса. Пожалуй, наиболее заметное отличие SARS-2 — это генетическое свойство шиповидного белка, так называемый furin cleavage site, или «фуриновый сайт».
Это тот фуриновый сайт, который позволяет SARS-2 легче проникать в человеческие клетки?
Именно. Итак, давайте представим себе: какому-то ученому захотелось узнать, что будет, если вставить в коронавирус фуриновый сайт, известный по вирусам гриппа. Станет ли от этого вирус заразнее? Чтобы ответить на этот вопрос, я бы взял вирус SARS-1 в форме, которую я могу менять в лабораторных условиях, — то есть клон его ДНК. Понимаете?
Гипотеза об эксперименте, вышедшем из-под контроля, кажется мне крайне маловероятной
Попробуем понять. Вы объясните!
Чтобы провести над вирусом какие-то эксперименты, нельзя просто взять его и положить в лабораторную посуду. Создать ДНК-клон из вируса — это два-три года работы молекулярного биолога, но клоны исходного вируса SARS-1 уже существуют. Получается, что если бы кто-то — ученый или ученая — захотел или захотела бы создать в лаборатории что-то наподобие SARS-2, то они взяли бы клон SARS-1 и начали бы вносить в него изменения: например, добавили бы тот самый фуриновый сайт, чтобы понять, становится ли вирус SARS от этого еще заразнее. Но здесь все было не так, потому что сама основа SARS-2 другая: в нем слишком много отличий от исходного SARS-1.
«Основа другая»? Как это?
Давайте я объясню на примере. Чтобы проверить, повышает ли какая-то модификация заразность вируса, мне нужно взять существующую систему, модифицировать ее и потом сравнить с прежней системой. Чтобы понять, действительно ли новая магнитола лучше, я возьму существующий автомобиль и поменяю в нем магнитолу, а потом сравню звучание. Мне не нужно строить для этого новую машину. А вот в случае с SARS-2 как раз так и случилось: машина другая.
И что это значит?
Гипотеза об эксперименте, вышедшем из-под контроля, кажется мне крайне маловероятной, потому что проводить такой эксперимент было бы неоправданно трудоемко. Гипотеза о злонамеренном вмешательстве какой-то тайной лаборатории спецслужб — не могу представить такую лабораторию при Уханьском институте вирусологии. Это серьезное научно-исследовательское учреждение.
А какая версия кажется вам наиболее вероятной?
Животноводство. Конкретно — разведение хищных животных.
Почему?
У меня нет никаких доказательств кроме научно подтвержденного происхождения SARS-1, а это вирус того же вида. Вирусы одного вида имеют схожее действие и часто — одинаковое происхождение. Промежуточными хозяевами SARS-1 стали енотовидные собаки и виверровые, это установлено наукой и неоспоримо. Известно и то, что в Китае енотовидных собак массово разводят и используют на мех: если вы покупаете где-то куртку с меховым воротником, то это, за редким исключением, будет мех китайской енотовидной собаки. Так вот, я вас могу заверить, что нет ни одного исследования — ни одного, — в котором ученые освещали бы вопрос о частотности SARS-2 в популяциях китайских енотовидных собак или других пушных зверей, например норок.
Популяции животных, которых разводят в Китае, нужно изучать систематически
Как так?
Этого я тоже не понимаю. Могу только сказать, что для такого исследования нужно просто прийти, взять мазки и сделать ПЦР.
Почему этого никто не делает? Разве не важно понять, как вирус попал к человеку?
На эту тему не опубликовано ни одного исследования. В 2003 и 2004 годах в Китае провели крупные исследования, которые доказали связь SARS-1 с енотовидными собаками и виверровыми.
Стоп, мы все правильно сейчас понимаем? Из-за пандемии мир уже целый год стоит на ушах, мы тратим огромные средства на борьбу с вирусом, а никто до сих пор не съездил туда, где вирус зародился, и не взял нужные мазки?
Делегация ВОЗ была с официальным визитом в Китае, но популяции животных, которых разводят в разных регионах, нужно, конечно, изучать систематически — сделать выборочные тесты по всей стране. Я не знаю, занимаются ли этим китайские ученые, хотя исключать не могу. Быть может, на следующей неделе опубликуют статью, которая все прояснит, не знаю. Все, что я могу сказать: никакой информации по этому вопросу у меня нет.
А почему вы не съездили в Китай в составе делегации ВОЗ?
Я всегда готов принять участие в таких визитах, но в этом конкретном случае ВОЗ, которая организовывала миссию, не обратилась ко мне.
Если вернуться к звероферме: можете объяснить, как это работает? Как SARS-2 попал к человеку от летучей мыши через промежуточного хозяина — китайскую енотовидную собаку?
Пушные звери — хищники, в дикой природе они охотятся на мелких млекопитающих, в том числе на летучих мышей. Потомство у всех летучих мышей появляется одновременно и в строго определенный период. Новорожденные мыши иногда падают на землю, и пушные звери это знают, поэтому забираются в пещеры с летучими мышами и наедаются до отвала. Для них это настоящий праздник живота. Вирус может перейти к ним как раз в этот момент. Зверофермы часто пополняются животными, пойманными в дикой природе, поэтому вирус легко может оказаться внутри популяции. А о том, как снимают шкуры, есть целые телесюжеты: в этот момент животные напрямую контактируют с человеком и могут заразить его.
Что делать, если на такой звероферме обнаружен вирус?
Зверофермы закрыты. Вокруг забор. Если бы существовала вакцина, всех животных можно было бы привить. Ну или забить, как это сделали в Дании, — тогда вирус тоже будет уничтожен и не вернется сразу же — по крайней мере, в этом варианте. При этом надо понимать, что если изучить эти популяции сейчас, то мы можем уже и не найти тот вирус, который мог быть там полтора или два года назад. Может быть, зараженных животных уже забили. Или вирус угас сам.
Чем больше плотность и размер животноводческих хозяйств, тем больше шансов, что вирус начнет взрывной рост
В этом веке у нас уже была эпидемия SARS-1, потом MERS, а теперь — SARS-2. Что вообще происходит?
Про пандемии SARS можно сказать вот что: 50-60 лет назад, когда трансатлантические рейсы были в диковинку и на них летали только дипломаты, а весь торговый оборот с Азией шел через контейнеры, вирус не смог бы распространиться так легко. Простота перемещений способствует перерастанию локальной эпидемии в пандемию. Если смотреть на источник, точку перехода от животных к человеку, мы видим, что люди захватывают у дикой природы все больше территорий и развивают животноводство. Растущее человечество жаждет мяса. Чем больше плотность и размер животноводческих хозяйств, тем больше шансов, что вирус, однажды занесенный в популяцию, начнет взрывной рост и станет мутировать, как SARS-2. Чем богаче становятся люди, тем активнее они используют сельскохозяйственных животных, и пример MERS здесь очень показателен.
Почему?
Верблюд издревле был жертвенным животным и большой ценностью. Верблюды дороги. Если человек религиозен, но беден, он скорее принесет в жертву овцу. Однако население страны богатеет и начинает приносить в жертву все больше верблюдов. Так, во время хаджа на Аравийском полуострове ежегодно убивают 40 тысяч верблюдов — и это только в качестве жертвы. Полвека назад это было просто немыслимо. Наконец, во всем мире идет преобразование природных экосистем, ведь наличие большой популяции сельскохозяйственных животных в одном месте — неестественная ситуация. В природе животноводства не бывает: ни одно животное не использует других животных так, как это делаем мы.
В Швейцарии почти никто не говорит о том, почему пандемия началась, зато все говорят о том, как поскорее справиться с ней. Почти треть населения уже привиты как минимум один раз, рестораны, бары, магазины, салоны красоты — все открыто. Приближается лето, заболеваемость падает. Она до сих пор высокая, но падает почти постоянно. Можно ли сказать, что при наших темпах вакцинации пандемия у нас уже закончилась?
Что такое пандемия? Это ситуация, когда инфекционная болезнь начинает распространяться столь быстро, что приходится прибегать к решительным мерам вплоть до локдауна. Теперь у нас есть вакцина — еще один инструмент, который замедляет распространение вируса значительно эффективнее, чем ограничение социальных контактов. Плюс к этому повышается температура воздуха, что замедляет распространение еще почти на 20%, поэтому число заболевших идет на спад. Теперь самое важное — не сворачивать ограничительные меры слишком быстро, иначе график снова начнет расти по экспоненте. Действовать нужно постепенно. А делают это, конечно, власти, которые руководствуются не только научными доводами, но и необходимостью компромисса. Если этот осторожный подход сохранится и пандемию мы определяем именно так, как описано выше, то да — скоро она закончится.
Есть все основания полагать, что SARS-2 нам уже продемонстрировал практически все, на что способен
И тогда мы достигнем коллективного иммунитета?
А что именно вы под этим подразумеваете?
Коллективный иммунитет возникает, когда 70%, 80% или 90% населения (данные разнятся) привиты либо переболели. В таких условиях вирус перестает циркулировать, то есть даже непривитые оказываются в безопасности.
Понятно. В нашем случае это не сработает.
То есть как?
Такой подход к коллективному иммунитету с самого начала был ошибочным: 70% получили иммунитет (привились или переболели — неважно), а остальные 30%, получается, больше никогда не будут контактировать с вирусом. Для SARS-2 это не так: все, кто не привился, обязательно заразятся. Понятие коллективного (иначе — стадного) иммунитета пришло к нам из ветеринарии, и там в прошлом действительно были такие выкладки, например применительно к вирусу чумы рогатого скота. Он очень заразный, но однократная прививка формирует у животного пожизненный иммунитет. Здесь действительно можно рассуждать так: если у нас есть изолированная популяция, сколько животных нам нужно привить, чтобы остановить циркуляцию вируса? Вот откуда сам термин.
Люди живут не в стаде?
Люди не живут изолированными группами. Мы умеем путешествовать, а еще взаимодействовать друг с другом: даже если границы закрыты, из одной деревни можно попасть в соседнюю, а из нее — в соседнюю, и так далее. Именно так и будут распространяться вирусы, в полном соответствии с их вирулентностью. Через пару лет сто процентов населения либо привьется, либо переболеет, но и после этого люди продолжат болеть SARS-2, просто это будут повторные заражения. Самое неприятное — это ведь когда заболеваешь впервые; все последующие разы болезнь протекает легче. Я бы сказал, что ковид, скорее всего, станет чем-то вроде простуды.
В последнее время мы много говорим о вакцинном неравенстве в мире. Раз миллиарды людей остаются без прививки, вирус может продолжить мутировать. Или в какой-то момент у него кончатся идеи?
Предполагаю, что кончатся.
Почему?
Чтобы разобраться в этом, давайте поговорим про иммунитет. От заражения и от болезни нас защищают разные части иммунной системы. Антитела, которые позволяют нам не заболеть, быстро пропадают и умеют распознавать вирус только по определенным кусочкам. Получается, что мы относительно быстро можем заболеть опять, особенно если вирус мутировал именно в этих местах.
Но?
Но эту болезнь мы уже перенесем значительно легче, потому что та часть иммунной системы, которая защищает нас от болезней, имеет более долгосрочное действие. Судя по всему, именно поэтому вакцинация на несколько лет защищает нас от тяжелых последствий. Такой иммунитет определяется так называемыми Т-клетками, о которых уже целый год все говорят. В отличие от антител, Т-клеткам не мешают мутации вируса, потому что они умеют распознавать его по целому ряду признаков. Получается, что потеря пары отличительных особенностей в ходе мутаций ничего не изменит.
То есть мы зря опасаемся, что вирус мутирует и сделает нынешние прививки бесполезными?
Мы наблюдаем, что различия между вариантами вируса, которые появляются по всему миру, не столь велики. С вирусологической точки зрения есть все основания полагать, что SARS-2 нам уже продемонстрировал практически все, на что способен. Дело в том, что у коронавирусов мутации обычно происходят медленнее и не столь выраженно, как, например, у вирусов гриппа, которые имеют значительно более высокий пандемический потенциал. Мутацию, которая приобрела бы способность вызывать тяжелое заболевание у большинства вакцинированных, я себе не представляю.
Что будет с теми, кто к осени останется непривитым, — с детьми, например?
Чисто технически их можно привить. Исходя из нынешнего уровня знаний, вряд ли мы когда-то выясним, что прививки представляют какую-то доселе неизвестную опасность для детей. Большой вопрос в том, какова польза прививки для самого ребенка. Конечно, можно привить всех, просто чтобы не уводить школы на дистант, но вот как болезнь отражается на детях? Этого пока никто не может сказать. Даже если ребенок легко перенес болезнь, могут ли у него остаться долгосрочные последствия? Только что вышло исследование, которое показывает, что примерно у 4,5% переболевших детей через месяц после выздоровления продолжают наблюдаться такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса, а также хроническая усталость. Мы хотим такого для своих детей? 4 процента — это немало. Еще одно соображение — мультисистемный воспалительный синдром, который развивается в одном из нескольких тысяч случаев. Это тяжелое заболевание, которое может длиться до полугода. Как родитель я бы, конечно, хотел, чтобы мой ребенок привился. Испытывать судьбу я не хочу.
Я не понимал, почему в обществе и СМИ иногда складывается «ложный баланс», и не осознавал, что его нельзя полностью скорректировать
Господин Дростен, подкаст канала NDR «Новости о коронавирусе» с вашим участием стал для многих в Германии первым источником информации о пандемии. Чего вы не знали, когда начинали вести этот подкаст?
Я тогда не знал, как устроены средства массовой информации.
В каком смысле?
Я не понимал, почему в обществе и СМИ иногда складывается «ложный баланс», и не осознавал, что его нельзя полностью скорректировать.
«Ложный баланс»? Как это?
Это когда мы говорим: вот мнение большинства ученых, скажем, ста, а вот двое других, которые отстаивают строго противоположное мнение. При этом в СМИ мы видим, как один из сотни спорит с одним из двух, и со стороны это выглядит так, как будто силы равны. В результате происходит то, что, в общем, и вызывает все проблемы, — власть говорит: «Ну что же, значит, правда где-то посередине». Получается, что все идут на ложный компромисс. Это раньше было мне незнакомо, я не представлял себе, что такое бывает. Более того, я не думал, что эта схема такая живучая и предопределенная. Так случилось почти во всех странах, все ученые об этом говорят, но я не ожидал, что я со своим подкастом окажусь между двух огней.
Вы жалеете о своем решении сделать подкаст?
Нет. Я не уверен, что это стало бы сейчас для меня достаточным доводом, чтобы не сделать всего того же самого, если это потребуется снова. Мне кажется, что я сделал все абсолютно правильно, потому что подкаст оказал определенное положительное воздействие, особенно в первую волну, пока этот «ложный баланс» не набрал большой силы. Все изменилось осенью, с началом второй волны, и это тут же отразилось на действиях властей, которые оказались в полной растерянности. Политики тоже стали говорить: «Вот один ученый нам сказал так, но мне больше нравится другой, а он говорит по-другому». Они начинают спорить друг с другом и приходят к тому самому компромиссу, то есть к полумерам. А полумер этот вирус не прощает.
Читайте также
Ковид или ковид-отрицатели — что угрожает демократии больше?
«Раскола нет. Есть шумное меньшинство, недовольное ковидными ограничениями»
«Год в чрезвычайной ситуации? Возможно»
Бистро #4: Пандемия в разных обществах
Кто прогнозировал пандемию задолго до ее начала?