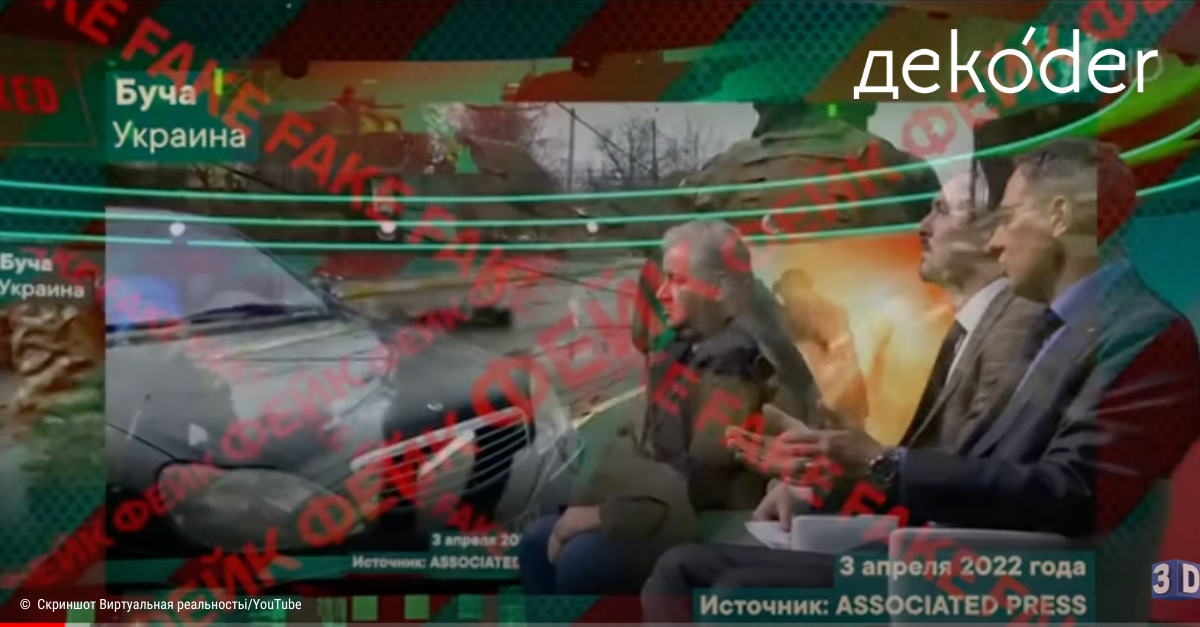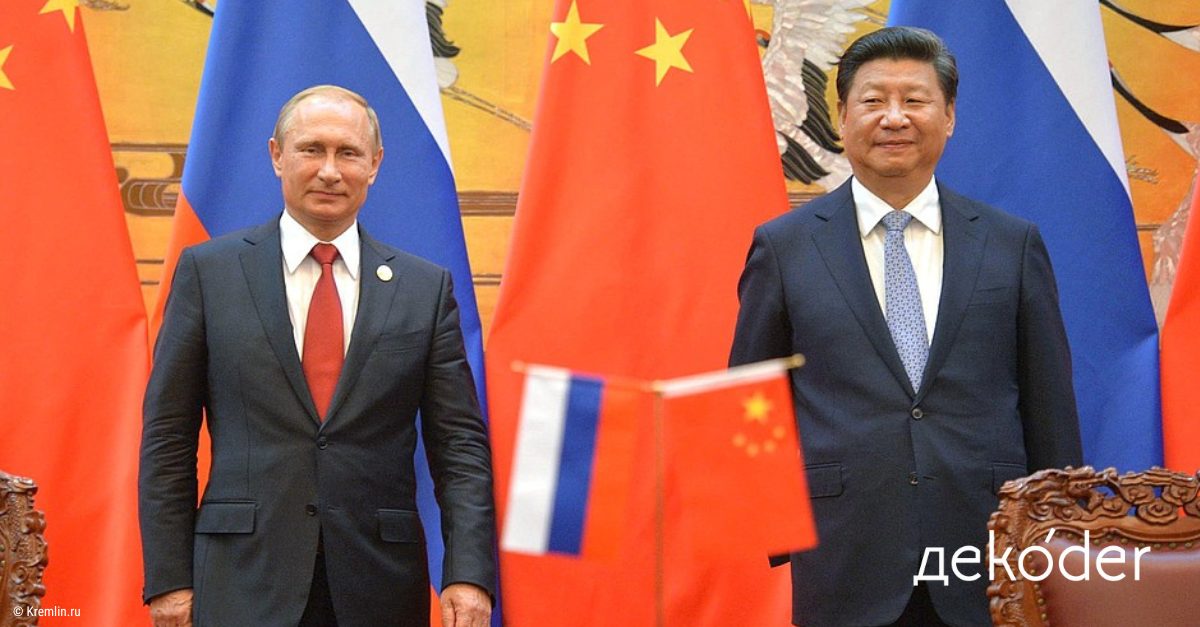Юля Артемова – писательница, родилась (1985) и выросла в Беларуси. В своем романе «Я и есть революция» (2021) она рассказывает «очень искреннюю, очень женственную и очень злую историю: о революции и любви, о братстве и сестринстве, о крушении иллюзий и взрослении как выборе».
Название эссе, которое она написала специально для проекта декодера «Беларусь: заглянуть в будущее», иронично отсылает к Году исторической памяти, объявленному Александром Лукашенко. Юлия Артемова, живущая сейчас в Украине, размышляет в нем об эскалации насилия, произошедшей в регионе после исторических протестов 2020 года в Беларуси и после начала захватнической войны России против Украины. И задается вопросом, могут ли люди возвращаться в те места, где столкнулись с жестокостью и насилием, и как им жить дальше с памятью об этом.
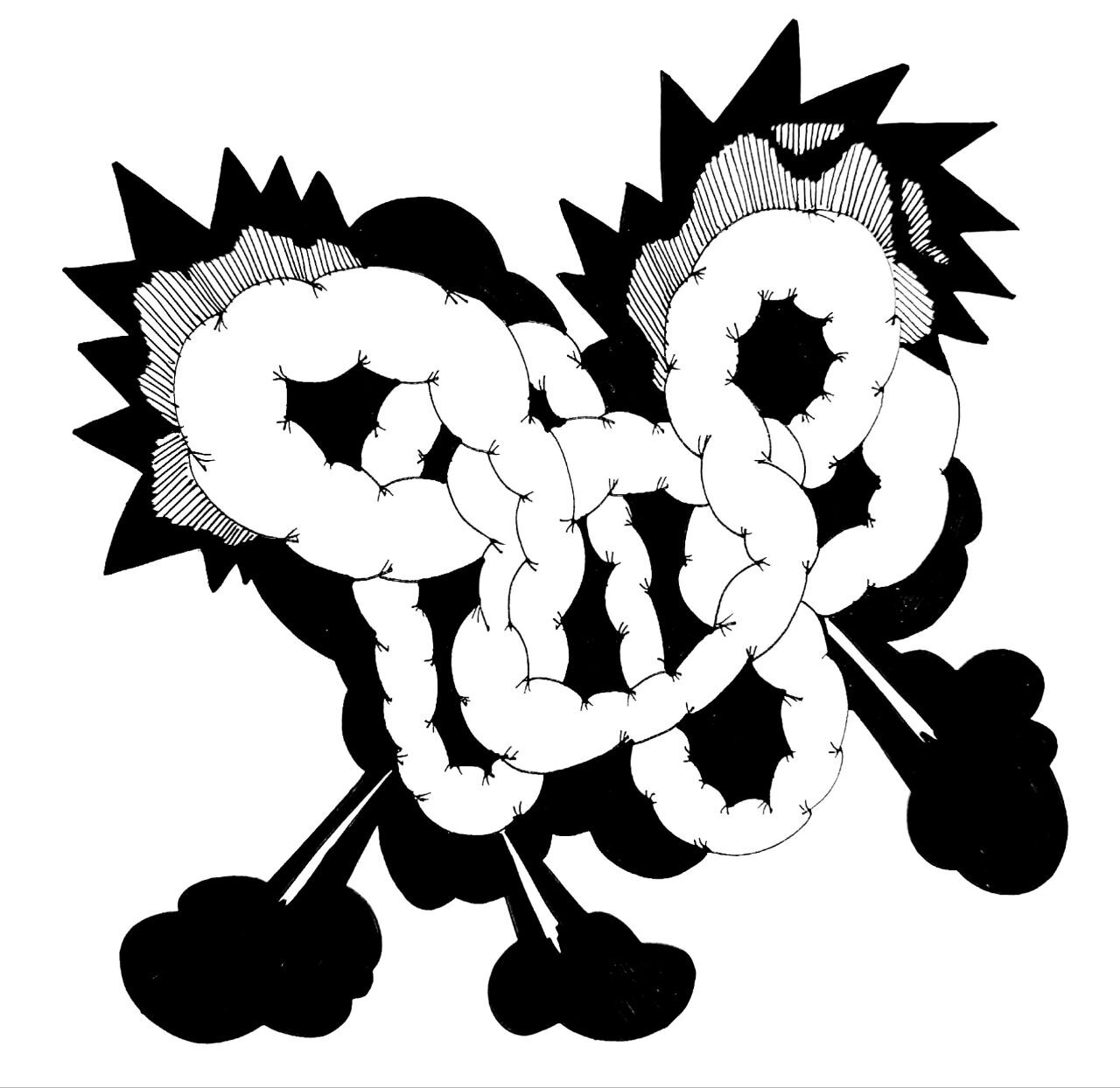
Этот текст я могу написать только от первого лица. По-хорошему, я бы не стала его никому показывать – дневниковые тексты не предназначены для чужих глаз, а этот текст больше всего похож на дневник. Но нам (не)повезло — мы живем в такое время и в таком месте, когда наши воспоминания становятся дневниками, а дневники — документами. Наши балконы и окна превращаются в трибуны, наши тела становятся свидетельствами и доказательствами преступлений. Буквы, которые ты давишь из себя через силу, потому что у тебя, как и у многих, адняло мову, твой голос охрип, но он все еще есть и поэтому он должен, обязан звучать. А значит, я не могу не опубликовать этот текст.
Кажется, это был февраль двадцать первого. Февраль, точно февраль? Январь? А может март? Или это было в декабре? Я точно помню, что шел снег — но и это сомнительный ориентир. Мало ли в Беларуси невыносимых серых слякотных снежных месяцев? Или просто всё в те дни сплелось, слилось, слепилось, как снежный ком, в один долгий месяц-ожидание? Но это тот самый случай, когда хронология и документальная точность совершенно не важны. Ну, пусть будет февраль. Так вот, в феврале двадцать первого, я слонялась вечером по городу, попутно решая бытовые будничные дела. На обратной дороге мне нужно было зайти в банкомат. Я посмотрела в приложении адрес ближайшего и пошла туда.
На полпути меня накрыло. Отбросило взрывной волной в недавнее прошлое. Полгода назад мы встречались у этого самого банкомата с моим другом Колей. Банкомат оказался просто удобным и понятным ориентиром. Суббота, 15 августа, в 12:00 – мы собирались вместе пойти на прощание с Александром Тарайковским.
Именно тогда, вечером, стоя под февральской метелью я поняла — моего города детства, города, где я прожила большую часть жизни, больше нет. В Минске не осталось магазинов, лавочек, дворов, заборов, кафе. Он весь покрылся сеткой шрамов — вот тут убегали — и убежали; тут прятались в подъезде; тут стояли и смотрели, как бьют и разгоняют людей и сами не могли даже пошевелиться; тут след от светошумовой; тут ходили женским маршем; тут взяли моего мужа Женю, и каждый раз — правда, каждый — проезжая мимо этого места, он повторял «вот тут меня задержали»; тут был зимний дворовый марш с соседним районом; тут стояли в цепи солидарности вместе с Ромой и другими ребятами с нашего двора. А вот тут убили Рому.
Я закрываю глаза — на карте города не осталось слепых пятен, не осталось чистых мест, не осталось воспоминаний из дореволюционной жизни. Удивительно работает память — она ложится слоями, как штукатурка. И каждый новый слой будто размывает, перекрывает, отменяет предыдущий.
А что там на предыдущем слое? Улицы, по которым гуляла я, шестнадцатилетняя и влюбленная, с одной и той же кассетой в плейере. Парк в десяти минутах от дома, куда в детстве меня водила мама. Двор, где мы любили сидеть с моей лучшей подругой, катаясь на каруселях и попивая дешевое красное вино прямо из горлышка одной на двоих бутылки. Даже школа, в которую я ходила девять лет — превратилась в соседний с моим избирательный участок, а мои учителя — в членов избирательной комиссии, которые подписали сфальсифицированный протокол. Будто и не было больше меня шестнадцатилетней. Личное это политическое. Мое личное было стерто грубым ластиком с карты города за три дня с 9 по 11 августа. Дни пыток. Наше 9/11.
И если бы только город. Даже самые обычные вещи внезапно поменяли свое значение, им переприсвоился новый смысл. Мы были огромной людской рекой в августе-сентябре-октябре двадцатого. Как речка Немига, которую загнали когда-то в бетонную клетку. Когда наши марши окончательно вытеснили с улиц — обычные лавки, заборы, деревья, лифты, остановки стали превращаться в плакаты, в холсты для политических высказываний. Стены заброшек и обычных панелек замироточили — не забудем, не простим. Эти слова, написанные красным, проступали вновь и вновь через несколько слоев белой краски. К тому времени, когда слоев становилось слишком много и буквы уже не проглядывали сквозь краску — все вокруг знали, что скрывается за белыми прямоугольниками.
***
Июньское утро субботы, центр Варшавы. Мы сидим на летней веранде кафе с моей школьной подругой (она всегда была просто школьной подругой, а потом стала той самой подругой из Ирпеня, которая десять дней с мамой и котом выживала в обстреливаемом городе). Здесь, в Варшаве, совершенно не чувствуется война, пусть и украинских флагов много, очень много. Я задаю подруге вопрос, который давно крутится в моей голове: «Ты хочешь вернуться в Украину?». И она говорит: «Я, знаешь, хотела бы приезжать туда иногда, скажем, махнуть на неделю-другую во Львов или Киев, съездить в Одессу или Карпаты. Но возвращаться… Я не знаю. Я не знаю, как мне теперь жить в Ирпене, если в нашем парке с дизайнерскими лавочками хоронили людей».
Она говорит, говорит, а я слушаю ее внимательно, не перебивая, она говорит, а я запоминаю, она говорит и я понимаю — она отвечает за нас обеих, она отвечает на мой собственный вопрос, который я каждый раз боюсь задавать, потому что тогда придётся быть честной с самой собой. Хочу ли я вернуться в Минск? Хочу ли я каждый день видеть из своего окна двор, где убили моего соседа Рому? Хочу ли я пить кофе на детской площадке, которая превратилась в мемориал? Хочу ли я ходить по улицам, где били людей, где стреляли в людей, где кидали гранаты в людей?
Невозможно хотеть жить в городе, где парки превращаются в братские могилы, а детские площадки — в мемориалы.
Так, спустя год после отъезда, сидя в солнечной утренней Варшаве я окончательно понимаю — ты не можешь вернуться в Минск, того города просто не существует, он есть лишь в памяти, он сшит из образов-воспоминаний, как чудовище Франкенштейна. Мы хотели переписать его, но у нас не получилось. Теперь это город-черновик, брошенный неумелым писателем на середине.
И все же, и всё же это город, в жилах которого течёт Немига нашего протеста. Я снова открываю дневник и зачитываю запись оттуда:
Прошлым летом мы с мужем поехали кататься на велосипедах. Мы выехали через стелу на проспект Победителей. Год назад по воскресеньям эти места выглядели совсем иначе и мы так надеялись, что победители это мы. Повсюду красно-зелёные флаги, их так нарочито много, больше, чем людей. И люди. Люди, равнодушные, гуляющие как ни в чем ни бывало. Словно и правда перевернули страницу. Мне было горько — год назад здесь текла бело-красно-белая река. Мы сели на лавочку рядом со зданием, на котором было написано «Минск — город-герой». Я уткнулась носом в телефон, чтобы отвлечься. На соседнюю лавочку присели молодой отец с маленьким сыном. И я случайно услышала их разговор, я не могла его не услышать — они говорили на беларускай мове. Это было как маленькое чудо. Будто в минуты, когда ты теряешь надежду, твой город подмигивает тебе.
Минска нет – он существует лишь в нашей коллективной памяти.
Минск есть – он существует в нашей коллективной памяти.
И пока мы все помним, есть шанс. Есть шанс пересобрать город заново, перекрыть шрамы татуировками, предать местам новые смыслы. Выйти на улицу, вернуть себе город. Не перевернуть страницу, а переписать ее набело, начисто. Сделать мемориалы там, где было по-настоящему больно. Не забыть и не простить. Дать улицам правильные имена. Выпустить Немигу из трубы.
***
Есть еще одна вещь, которая надолго поселилась в нашей коллективной памяти. В 2020 году беларусы обнаружили в себе удивительную силу, которая стала нашей национальной идеей. Тогда никто не мог дать этой силе правильного названия, никто не мог эту идею сформулировать. Беларусы – невероятные? Это звучало слишком восторженно и наивно.
И вот сейчас, когда наши соседи украинцы так самоотверженно сражаются за свою свободу, иногда упрекая нас в слабости и трусости, нам особенно тяжело не принимать это близко к сердцу, не обвинять и не стыдить самих себя. Мы бесконечно сравниваем. И сравнение каждый раз выходит не в нашу пользу.
Но мы хоть и близкие, но совсем другие. Пока украинцы говорят «Борiтеся — поборете!», мы говорим «Не забудем, не простим». Эти слова мне кажутся самыми честными и острыми из всех лозунгов и слоганов, рожденных нашей несостоявшейся революцией-2020. Эти слова идут из каждого израненного сердца. Эти слова и про 9-11, и про Тарайковского, Бондаренко, Шутова, Ашурка. Эти слова про Завадского, Гончара и Захаренко. Эти слова про 1309 политических заключенных. Эти слова про 30 репрессированных журналистов. Эти слова про 28 лет без выбора. Эти слова про Диму Стаховского, 17-летнего парня, который покончил с собой из-за уголовного преследования за участие в протестах. Эти слова про Андрея Зельцера. Эти слова про сотни ракет, летящих с февраля на Украину с территории моей страны. Эти слова про Куропаты. Эти слова про Быкова, про Короткевича, про Купалу и Коласа. Эти слова про ночь расстрелянных поэтов.
Сегодня, находясь в Украине, я каждый день вижу, как жизнь прорастает даже на самой неплодородной почве. Прорастает несмотря ни на что, среди боли, войны и ужаса. Я знаю – это то, что лучше всего умеет мой народ, в этом и есть национальная идея беларусов – не биться, а прорастать травой сквозь асфальт, несмотря на суровую холодную зиму, прорастать там, где больше ничего другого не растет. Выжить, жить и помнить, помнить, помнить. Не забыть, не простить.
… не разбiць, не спынiць, не стрымаць.